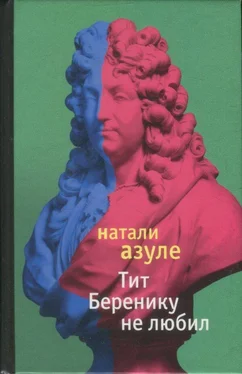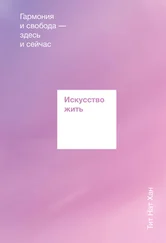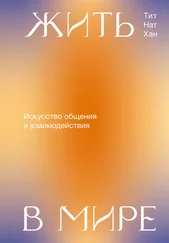Она сидит, вцепившись в руль, и плачет; Тит для нее — та исконная, та первозданная плоть, в которой все слилось — тела ее отца и матери; прильнуть к ней и в рождении и в смерти — таков ее, Береники, удел, — и она плачет, оттого что точно это знает, как знает, сколько сил придется положить на то, чтобы расстаться, оторваться. Ночь за ночью скрипят ступеньки лестницы, открывается дверь, и она входит и идет к нему.
— Ты все-таки пришла… А я думал, откажешься.
— Я отказалась.
— Но ты здесь.
— Меня здесь нет.
— Что ж, может, ты галлюцинация. Не удивлюсь — при том, сколько всего в меня закачивают.
Рука на простыне зашевелилась. Все такое знакомое: пальцы, форма ногтей, даже косточка на запястье. Береника берет его руку, сплетает пальцы Тита и свои. Он отвечает ей пожатием, но говорить уже не может. А дальше пальцы Тита все ослабевают, рука обмякает. Береника держит ее еще крепче, но удерживать нечего. Она оторопело озирается, не понимая, что ей делать с этим грузным трофеем, с этой тушей зверя, рухнувшего около нее. Рыдать? Бежать? Звать Империю? Нет, Береника никого не станет звать, она останется одна, рядом с трупом своей любви. Нагнется и будет шептать ему, бесчувственному, прямо в лицо. Расскажет Титу все про их любовь, как будто он не знает, так мать рассказывает маленькому сыну каждый вечер перед сном историю про мальчика, который пошел в лес и заблудился, — такой смешной, но очень важный ритуал, имеющий значение лишь для двоих, тихий шепот здесь, в комнате, на грани дня и ночи. Живой живому не признается в своем страдании из гордости, а мертвому она теперь-то наконец откроет, какое горе он ей причинил и как она его переживала. Это продлится час или чуть больше. А потом она выйдет из спальни, поникшая, бледная и безучастная.
Империя окинет ее презирающим взглядом. Не станет прогонять, но отпихнет и ринется к постели Тита, будет плакать, метаться по дому, не замечая Беренику. И дети будут проходить мимо нее, как будто ее нет. В ответ на ее мягкое «прощайте» — ядовитые возгласы, резкие жесты. Ей не простят, что Тит выбрал ее в последний час. И только кто-нибудь из женщин, из друзей семейства, быть может, проявит учтивость. Предложит чашку чаю, рюмку коньяка, но Береника не захочет. Уйдет взбешенная, но сохранит до самого утра касание его ладони.
Королю уже тридцать два. Он воплощенное солнце, и каждое театральное действо становится благодаря ему лучом монаршего сияния. Куда бы он ни направлялся, везде играется комедия или балет. Король заказывает драматургам двухчасовую пьесу, и эти два часа внедряют в жизнь людей некое новое измерение — время, которое они проживают как зрители. И Жан иногда думает, что такое преобразование времени в большей степени, чем войны и государственные советы, останется его печатью, личной подписью в истории, символом его царствия в памяти потомков.
Он повелел, чтобы Жан продолжал писать трагедии, хотя нельзя сказать, что это любимый жанр государя. При встречах же — которые теперь весьма редки — Жану все кажется, что за ширмой поклонов и взглядов, предписанных протоколом, под прикрытием внешних обстоятельств, между ним и монархом проскальзывает искра чего-то глубоко затаенного, отблеск далекого мира, где они равны по возрасту и рангу и каждый командует на своем поприще; притом поэт заимствует у полководца смелость, а полководец у него — невидимое, невесомое золото слова. Однажды, незадолго до начала спектакля, Жан поделился этим чувством с Никола, тот пожурил его за слишком буйное воображение, но вскоре так и обомлел: король подозвал Жана и усадил рядом с собой.
Жан видит его, даже не поворачивая головы, улавливает каждый жест, малейшее дыхание. Рассматривает его туфли — рисунок ткани, пряжки и банты. Медленно поднимает взгляд: по голени от щиколотки до колена — а там на шелковом чулке прореха. От неожиданности он чуть не бросается проверить. С усилием отводит взгляд, старается смотреть перед собой, но злополучная прореха не выходит из ума: значит, король — такой же смертный и не избавлен от житейских мелочей. Жан закипает злостью против всех, по чьей вине король предстал вот так перед своими подданными: уязвимым человеком, с очевидными изъянами. Тяжелые портьеры, дурманящие свечи поглощают воздух, Жан задыхается, но тут раздается голос Антиоха:
— Помедлим здесь, Арфас! [55] С этих слов Антиоха начинается трагедия Расина «Береника».
Он успокоился, закрыл глаза. «Вся моя пьеса, от начала до конца будет всего лишь долгим вздохом», — говаривал он Никола. «Публике нужно действие», — возражал его друг. И вот король поворачивается к нему. Жан, подчиняясь этому призыву, ловит его взгляд. «Смельчак», — с улыбкой говорит король и снова обращает взор на сцену. Сердце Жана пылает. Король его понял, — понял, что означает этот вздох. Оплывшим воском сердце растекается в груди.
Читать дальше