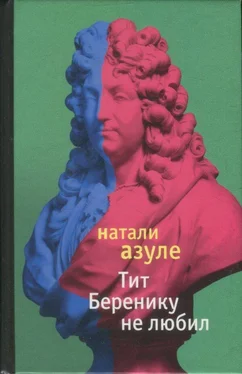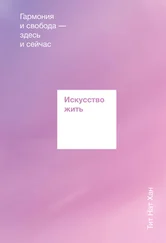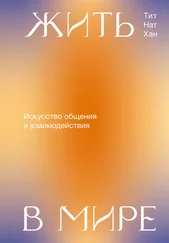Уж как злил Жана Буало своими бесконечными попреками, но стоило тому сказать однажды, что он не знает ничего прекрасней, чем начало Книги Бытия, как Жан его простил. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Да явится суша. И стало так». В такие минуты Жан видит, что их дружбу скрепляет не только расчет и взаимная выгода, но и общая глубинная страсть к простому слогу. Это она толкает Никола безжалостно потрошить его строки. И не только его, он судит и Гомера с Еврипидом, выпевая скрипучим голоском: «Слишком вычурный перифраз» — или: «А вот тут превосходно — стремительно, живо». Жан фыркает, но жадно слушает — ему и самому понятно, что в двух его последних пьесах чего-то недостает. В них уже нет того величия, что было в «Беренике», безумия, как у Ореста или Гермионы. Он потерял кураж, герои стали пресными, он умеряет скорбь Монимы и неистовство Роксаны и слишком потакает моде и славе.
— Придирайтесь побольше к моим стихам, не прекращайте разбирать их по косточкам и всегда говорите мне, если они звучат высокопарно или пустопорожне, — просит он Никола.
— Обещаю, — отвечает тот. — И кстати, я тут бьюсь над строчкой Еврипида. Не поможете мне?
— Буду рад.
— Я перевел ее так: «Зловещих этих змей кому грозит шипенье?» [59] Почти точное повторение строки из монолога Ореста (Андромаха, V, 5).
Что скажете?
Жану смешно — Никола взял это у него самого. Писатели грабят друг друга — такое случается. Друг добродушно соглашается и добавляет: не будь этих краж, некоторые авторы канули бы в забвение, вроде того, которого он нынче переводит: о нем почти ничего не известно и все его другие сочинения утеряны.
— Пройдет несколько веков, — подхватывает Жан, — и мы с вами тоже превратимся в безвестных, чуть ли не безымянных писателей, и наши слова затеряются в дебрях времен. Что был ты на свете, что не был — какая, в сущности, разница? Так стоит ли стараться?
Никола помрачнел. Жан спохватился и, чтобы утешить друга, дорисовывает перспективу: в дебрях времен наверняка будет найден след его жизни — мраморный бюст, пусть и с отбитым носом.
Он ждет.
Конечно, лучше бы чествовали его одного, но изменить королевский приказ не удалось. С ним вместе в Академию будут принимать еще двух новых членов, хотя всех троих почтительно разместили по разным комнатам.
Пронзительный студеный ветер обдувает его изнутри, леденит его кровь, заставляет сжиматься все органы и колышет перья, украшающие платье и шляпу. Сейчас за ним придут, и он станет бессмертным. Слово нисколько его не коробит. Наоборот — он счастлив. Теперь не важно, будет ли вечно жить его душа, раз не умрут его стихи. Ему вспоминается тетушка и все другие, предрекавшие, что он не обретет спасения. Пусть же посмотрят, чего он достиг.
До прошлого года заседания Академии были закрыты для публики, но Кольбер и король пожелали прибавить им пышности. Удача для Жана. Он пригласил друзей, маркиза и кузенов — словом, всех, кроме Мари, поскольку женщины туда не допускались. Это главнейший день его жизни. Величайшее крещение. Он целый месяц готовился, придумывал речь, составлял программу торжеств.
Избрали его сразу, и немудрено — он научился мастерски подавлять в зародыше интриги или же оборачивать их себе на пользу. Его кандидатуру поддержал король. Лишь пять из двадцати шести голосов были против. А Корнель прошел только с третьего раза. Приземистый старик, он тоже заседает в бывшем зале Королевского совета. Тот, кто вчера науськивал партер, сегодня, как и все другие академики, любезно встретит Жана, будет вымучивать улыбки, скрывающие злобу, зависть, страх. У Жана к Корнелю осталась только дремлющая неприязнь, если она и просыпалась, то разве когда он слышал, что старый драматург задумал нечто многообещающее.
Зовут. Он входит вслед за провожатым в просторный зал. На дальнем конце стола сидит президиум, по обе стороны — все члены Академии, на ближнем — пустое кресло, в которое он сядет рядом с двумя другими новоиспеченными бессмертными. Видно, король решил, что он достойней завершит эту троицу, чем ученый или священник [60] Расин был принят в Академию 12 января 1673 года одновременно с ученым Жаном Галуа и епископом Валантеном Эспри Флешье.
. Или наоборот… Нет, это невозможно, Жан уверен: король не может так подумать о себе, а значит, и обо мне.
Свою речь он показал не только Никола, но, по такому случаю, еще и Лафонтену. В глазах у обоих читалась зависть вперемешку со старательным доброжелательством, так бывает, когда другие получают то, чего хотелось бы и нам: мы ревнуем, но стремимся заглушить ощущение несправедливости радостью за ближнего.
Читать дальше