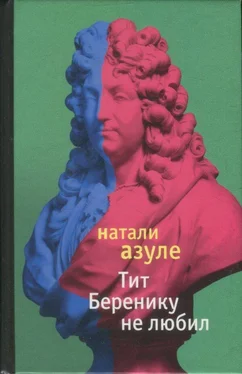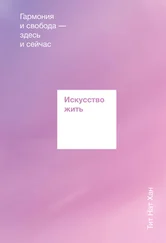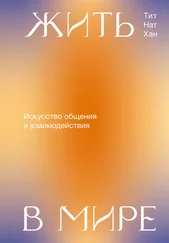Марию этот его новый метод возмущает. С каких же пор трагический поэт опускается до расспросов самых обычных женщин? Где это видано, чтобы поэзия питалась житейскими историями? И что он о себе воображает? Но Жан и бровью не ведет, знай себе копит материал — наверняка пригодится, хоть еще неизвестно на что. К концу опросов набралось три исписанных толстых тетради — недурная добыча.
Никола эта затея кажется слишком пошлой. Он уговаривает друга сжечь тетради. «Что-то со всех сторон меня подстерегает пламя», — усмехается Жан. Но аутодафе его не страшит — навидался с детства. Пусть бы и сгорели все записи — он никогда не забывал ни слова из сожженных текстов.
Мария не сдается. Уже поговаривают, что у него весь день бывают женщины. Он испортит себе репутацию! В отместку она уступает поклонникам, которые толпами ходят за нею, и откликается на похвалы, которыми ее осыпает Мольер. Потеряв Мари, Жан потеряет душу своего театра и проиграет битву с машинерией. Для его трагедий нужна блестящая актриса. И он искупает вину — сжигает все три тетради у нее на глазах. А чтобы уж точно получить прощение, на другой же день заказывает ее портрет во весь рост.
Она позирует художнику, и Жан на первые сеансы ходит вместе с нею, разглядывает ее руки, лицо, следит, как беззвучно опускаются ресницы. И мало-помалу словно растворяется в немом процессе живописи. Слышит, как кисть касается палитры, а затем холста, закрывает глаза. В следующий раз, объясняя актеру, как выдерживать паузу, он ему скажет: тишина должна быть такой, чтоб было слышно, как кисточка шуршит по холсту… нет, как перо скребет по бумаге. Мари, скосившись на него и видя его мрачный вид, хочет знать, что случилось. Жан отговаривается — то болит голова, то мелкие неприятности.
— Лучше бы думали о своих турках! — говорит она.
— С турками все в порядке, — отрезает он.
— Они должны иметь успех, чтоб все забыли о несчастной Беренике.
Мари права: у него нет другого выхода, как только завернуть трагедию с пестрым действием. Пусть даже будет скучновато сочинять.
Иной раз сеанс так затягивается, что он от скуки принимается расспрашивать художника. Как он работает, насколько то, что он видит, отличается от изображения. Художник отвечает, что всеми силами старается уменьшить эту разницу. А Жан завидует: ведь у того перед глазами живая натура, а он-то сам обходится рассказами из третьих рук да смутными, призрачными видениями.
— В детстве мне очень хотелось рисовать землю красным — красную землю среди зеленой травы. Я думал, так же можно и писать.
Художник смотрит на него, оторопев. Мари ворчит: вечно он людям голову морочит своими бреднями.
Никола «Баязет» не понравился, а Мари отказалась от роли Роксаны — слишком резка, слишком груба, не ее амплуа. Особенно возмутили ее две реплики в начале второго акта, одна другой бесстыднее да и противоречивые к тому же. То она говорит: «Постойте, Баязет, я вас люблю, поверьте», а то вдруг: «От вас мне более не нужно ничего» [58] Жан Расин. Баязет, II, 1.
. Играть влюбленную, которая грозится загрызть того, кто не отвечает ей взаимностью, а у самой и зубов-то нет, Мари не пожелала, Жан не стал ее уговаривать, и она выбрала не такую буйную Аталиду.
Он сочиняет пьесы с оглядкой на моду, на творения своих соперников, сообразуясь с новыми вкусами. «Митридат», он уверен, понравится Никола. Понравится всем, особенно королю — там целые тирады посвящены его правлению, его победам. Жан и сам проникается тем воинственным пылом, который вложил в свою пьесу: энергичней, чем прежде, отбивает нападки, расстраивает козни, сражается с удвоенной, утроенной силой. Он теперь предводитель, царь столичных салонов, и у него не счесть друзей и подданных. Ему уступают дорогу, многие, не рискуя вступить с ним в прямую схватку, скрываются под псевдонимами. Он во весь голос декламирует свои стихи в саду Тюильри, — так, словно обнажает шпагу, бросая вызов всем подряд.
— Говорят, нынче утром землекопы в Тюильри приняли вас за безумца, который собирался утопиться в пруду. Смотрите поосторожнее, — говорит Никола.
Но Жану все равно. Он даже и не прочь прослыть помешанным, опасным сумасбродом, каким подчас он сам себе снится: воякой в королевских доспехах, который всаживает шпагу в живот сначала старому Корнелю, а потом его младшему брату и вынимает окровавленный клинок. Бывает, по ночам он разражается столь яркими самозабвенными гипотипозами, что, по словам Мари, мог бы соперничать с великими актерами, хоть бы и с ней самой.
Читать дальше