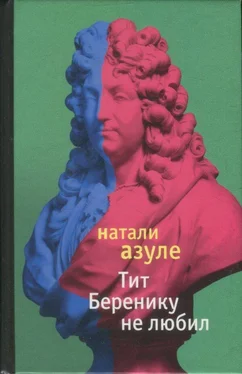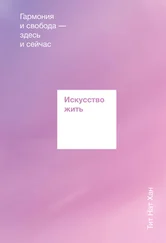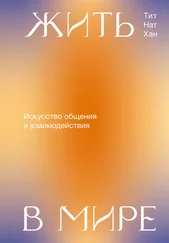И вот настало время торжественных речей. Жан встречается взглядом с маркизом. Чуть улыбается и вспоминает детские проказы лунными ночами. Он полон сложных чувств: видеть тут сразу всех своих старых друзей очень приятно, но неприятно думать, что они знавали его в самое черное время — бедным заброшенным сиротой, а что касается маркиза — еще и неоднократно униженным. Небось теперь, когда он стал академиком, никто уж не осмелится сжечь то, что ему дорого. От этих навязчивых мыслей его отвлекает и возвращает ему душевное спокойствие прочитанная вслух двадцать четвертая статья устава. Он знает ее наизусть.
«Главная задача Академии, — зачитывает председатель, — прикладывать все силы и старания к тому, чтобы разрабатывать правила нашего языка, радеть о его чистоте, богатстве и способности служить искусствам и наукам».
Почтенная, понятная задача. Жан сознает, как это важно: отбирать и обобщать, но он не Фюретьер и не составляет словарь. Он жаждет еще большей привилегии: чтоб только он, он один, мог блюсти чистоту языка величайшего в мире монарха. Вот первый из новоизбранных произносит клятву — обязательные, заранее известные и все-таки волнующие всех слова. И всякий раз, упоминая короля и повторяя обращение «Господа!», снимает шляпу.
Жан боится забыть, что положено делать по ходу обряда. И попросил Никола, в случае чего, подать ему знак. Больше всего он хотел бы узнать, над чем сейчас работает Корнель, в чем еще придется с ним потягаться. Про что он там: про Рим или Афины? Завтра же спросит. Пока же глаз с него не сводит, старается смотреть без трепета и без ехидства. Корнеля вдруг одолевает приступ кашля, так что почти не слышно говорящего. «Вот бы он умер в день моего триумфа, — с невольной усмешкой подумал Жан, — то-то был бы эффект!» И, кстати, говорят, Мольер очень плох, слабые легкие, того гляди умрет на сцене. Тогда он, Жан, останется один… Но Корнель уже справился с кашлем, пришел в себя, сидит солидно.
Жан помнит каждое написанное слово, в нем круглятся готовые фразы, которые он отчеканит без запинки. Минута-другая — и польются, ритмично трепеща и мигом затмевая то, что говорил Галуа. Это и есть его козырь — точная мера, в этом вся разница между нудной рацеей и тем, что выходит из-под его пера, облеченным во фразы, в которых слышен каждый слог и все наперечет, — пунктирно-мелодичные фразы, подобные согласно извивающимся змеям. Король теперь всецело увлечен музыкальным театром, где актеры поют, но разве пение без музыки не совершенство?
Ученому горячо аплодируют. Рукоплещет и Жан со всеми в унисон. Что ж ему остается? Он ловит на себе взгляд Кольбера — тот нарочно пришел послушать лучшего драматурга королевства.
Настала очередь Флешье. Тут другая тональность: голос стремительно взлетает, воодушевляет. Просветляются лица. Одаренный оратор владеет высокой патетикой. Он не собьется, не поддастся внезапному порыву. Флешье — само постоянство, его речь — однородная краска; Жан, слушая, вдруг начинает задыхаться и думать, как бы его собственная речь по сравнению с этой не показалась неприличной, растрепанной и непотребной.
Никола издалека подбадривает друга жестами, но у того одно желание: уйти, сбежать, спастись от этого кошмара. Не видеть, как довольно ухмыльнется чопорный Корнель и вместе с ним все те, кто подал голос против его избрания, а может, даже те, кто за. Аплодисменты не стихают, накрывают Жана, точно враждебная лавина. Ему такого не добиться никогда.
Теперь его черед.
Он встает, цепенеет. Отдается на волю церемониала, устоявшегося за многие годы, неизменного, как химическая формула. Подходит к креслу, кланяется, занимает место. Директор обнажает голову. Он начинает. Первые фразы получаются неловко, будто гребки на мелком месте.
На третьей Никола, приставив руку к уху, призывает говорить погромче. Жан напрягает голос, но все равно получается глухо. Он на миг закрывает глаза и снова поднимает веки. Секретарь посылает ему ободряющий взгляд, но он уже не видит; с ним рядом, как в старое время, Амон, оба копаются в земле и ведут разговоры, которые никто не должен слышать. Лощина, ночь, Уединение, никто не должен слышать. Голос становится все ниже. Еще чуть-чуть, и будет слышен только шелест шляпных перьев. Фразы застряли, его окружил океан. Лучше молчать, чем тараторить ту витиеватую тираду, которую он заготовил; пусть его голос растает, точно брошенная в переплавку стертая монета. Тетушкино лицо бледнеет на глазах, она вот-вот потеряет сознание, он должен замолчать, отбросить прочь ходули, проговорить всю речь как покаянную молитву без надежды на прощение. Он смолк.
Читать дальше