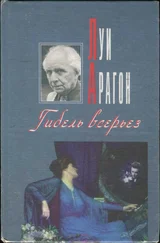— Ах, Орельен!
И Диана протянула ему для поцелуя руку.
— Смотри-ка, — вскричал Шельцер, — уселся здесь и закусывает один, как девица легкого поведения. В кафе и в такой час! Переезжай со своим коньяком за наш столик.
Орельен извинился. Он ждет кое-кого, потому и обедает так рано.
— Нет, он решительно не меняется, — подхватила Диана. — Держу пари, что у «кое-кого» прелестные глазки.
Появление Дианы со своей свитой выгнало Орельена на улицу. Вдруг ему невыносимой стала мысль присоединиться к этой компании. Пусть Диана красавица, но видно сразу, что глупа. А о Жаке вообще лучше не говорить.
Орельен зашел в кино. В маленькое кино, в одно из тех кино на бульварах, где оркестр, состоящий из трех музыкантов, терпеливо дождавшись своего часа, дружно отмечает звоном колокольчиков прибытие судна в Шанхайский порт… Конечно, какая-то любовная история. Высокая смуглая дама в развевающихся покрывалах, двигающаяся на полусогнутых ногах, и молодой человек, яростно вращающий белками глаз… Потом комедия, водевиль, столь же трагичный, как трагична убогая картонная декорация, среди которой развертывается действие; старые богатые тетки, молоденькие подружки, прячущиеся в стенных шкафах. Оркестранты жарили теперь уже без нот, лишь бы получалось веселее и быстрее. Что делать? Было всего десять часов, когда Орельен вышел из кино. Он с минуту колебался: вернуться? Зачем тогда было надевать смокинг? И он решительно зашагал к другому кинотеатру на той стороне бульваров.
Предприятие совсем иного сорта — с претензией на шик и солидность. Публики оказалось совсем немного… Фонарик контролерши на мгновенье осветил нового посетителя. В тесноте Орельен цеплялся за ноги зрителей. Близко сидеть он не любил. На экране уже шел американский боевик, и Орельен не сразу разобрался, что к чему. Артистки были до того похожи одна на другую, что он их все время путал. Кто этот толстяк — муж или нет? Почему он убил девочку? Красные надписи под кадрами ничего не объясняли, равно как и слишком громкая музыка. Чертовски сентиментальная история. Юная чета встречается в городском парке, среди огромных небоскребов, в прекрасно ухоженном парке, где прогуливаются и сидят на скамьях безработные и влюбленные, где повсюду цветы, а дорожки посыпаны песком…
Орельену пришлось встать, кто-то пробирался мимо него на свое место. Сильно надушенная дама села рядом с Орельеном. И он сразу разгадал ее намерения.
Он вышел из кино, весьма и весьма недовольный собой, и тут же его снова охватило отчаяние. Он смутно чувствовал свою вину. Слишком все глупо, лишено всякого смысла. Он ненавидел животное, которое жило в нем, с которым он так бесплодно боролся. Он побрел к Монмартру, не обращая внимания на заигрывания девиц, на крики газетчиков. Дождь перестал. И то хорошо… Из окон кафе падали белесые полосы света. Орельен уже не колебался. Он вошел в полосу света, насыщенного алкоголем, встал у стойки, начал пить рюмку за рюмкой и напился как никогда в жизни. До чего он себя презирал, до чего был себе противен!
При дневном освещении галерея, какая-то особенно безлюдная по сравнению с толкучкой вернисажа, имела совсем иной вид: с трудом верилось, что это та же выставка. Орельен снял шляпу, нацепил изогнутую крючком ручку зонтика на согнутый локоть и, одернув сшитое по тогдашней моде узкое пальто, вошел в галерею; он тотчас почувствовал себя чужим в этой гробовой тишине, нарушаемой лишь робким шепотом случайно забредшей парочки, да скрипом пера — это усердно писала что-то дама с прилизанными волосами, сидя за столом в большой комнате, должно быть, конторщица. Казалось, что эти экстравагантные картины и те как-то обвиселись, стали привычнее для глаза, превратились в самые обыкновенные полотна и поражали разве только своим количеством; слишком их много было для этих стен, для этого душного помещения. Вот и все! В зале налево, уже освещенном электричеством, искусственный свет разлагал краски, наводил невидимой рукой белила на оставленные незакрашенными поля акварелей, рисунков, свидетельствовавших о попытках Замора вторгнуться в ряды гениев путем копирования их маний, причуд и аффектации.
Здесь находилось то, что искал Орельен. С сильно бьющимся сердцем, с чувством, близким к отвращению, он подошел к этому непонятному изображению, запечатлевшему двойственную игру лица, чьи черты на сей раз показались ему на редкость грубыми, лишенными изящества. Так ли уж похож портрет? Тут только Орельен заметил, что на сером плюше, которым был застлан пол, остались отпечатки его мокрых подошв. Он пришел сюда украдкой, словно вор. Но чего же ему бояться? Орельен оглянулся, обвел зал быстрым взглядом. Ровно никто не обращал внимания на переконфуженного посетителя. Итак, он мог свободно, без помех, глядеть, глядеть сколько душе угодно на Беренику, уловленную в двух ипостасях. Как ловят и пришпиливают к дощечке бабочку. Любое ее изображение разочаровывает… Не только эти два наложенных друг на друга эскиза, но даже ее маска, подлинный слепок с ее лица, висевший у него на стене. Подлинный и в то же время неверный, как и этот портрет. И самое удивительное было то, что, оставив сосуществовать на одном холсте эти два рисунка, взаимно отрицающие друг друга, Замора проявил несвойственное ему сомнение в своем искусстве. Расписался в собственном бессилии. И тут повинна была не только неспособность художника, но и неуловимость Береники…
Читать дальше