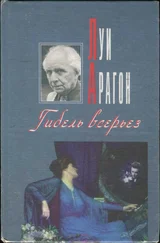Если бы сейчас была весна, он тут же укатил бы за город, все равно куда, лишь бы ходить, карабкаться по горам, затеряться в одиночестве. Но на дворе было холодно, грязно, хмуро. Как убить время, как прожить эти непереносимо тяжелые дни, которые должны наступить и медлят наступить? Одно было бесспорно — он не мог теперь переносить своей двухкомнатной квартирки, унылого своего жилья, книг, которые никак не читались, отупляющей игры огня в камине, однообразия домашней обстановки, ежедневных гастролей мадам Дювинь, а особенно, а прежде и больше всего, этой белой маски, посмертного слепка, зловещего напоминания об умершей любви… Однако он боялся выходить из дому: а что, если произойдет невозможное?.. Ну и пусть! Пусть случится самое худшее, пусть случится любое, только бы всему конец! Впервые в жизни Орельен с той пронзающей остротой, которой достигают чувства в момент пробуждения, в самые последние мгновения сна, впервые ощутил он предельную пустоту существования. До сих пор он полагал, что чем-то занят, что достаточно ловко обманывает смерть, что бездельником выглядит только в глазах дураков. Он виделся с людьми, с удовольствием слушал их разговоры, с удовольствием осуждал наш безрассудный мир, сам принимал участие в его суетной возне, стараясь вникнуть в его драмы, делить общие утехи… Были у него приключения, встречи, равноценные открытиям… Время от времени он отправлялся путешествовать, успевал вдохнуть на просторах глоток свободы; он был опьянен темным и слепым существованием мирных лет, если только это был мир, а не потаенная война. До чего же пустопорожним и никчемным казалось ему сейчас это дилетантское существование! Он не хотел ничего. Даже солнца, даже тепла. Что же такое произошло? «Одна ушла, и сразу мир — пустыня…» Эти ламартиновские строки, связанные с воспоминанием о Шарле Гонфрее, овладели им как приступ гнева. Неужели он так одинок? Конечно, он мог в любой день получить приглашение на обед от четы Гонфрей… Но вспомнил молодую супругу Шарля, вечные разговоры о бирже и акциях. Шарль непременно спросит его, почему он, Орельен, до сих пор не приобрел себе «Мексикен игл» или что-нибудь в этом роде. В конце концов он мог бы стерпеть присутствие только одного человека — доктора Декера. Оба они одинаково несчастны, и он и Джики. Но при мысли о том, как оба они, сойдясь, начнут хныкать, он содрогнулся: нет, нет и еще раз нет! Вдруг ему подумалось о Декере с отвращением, с явно несправедливой жестокостью. Эта медузья любовь… Все принимать… все терпеть! Он старался не видеть эту черную топь. Только не это!
С удивившей его самого внезапностью он решил одеться, будто ему предстояло идти на званый вечер. Заметив, что не брит, Орельен прошелся бритвой по подбородку. В трехстворчатом зеркале он поймал свой взгляд. Бог знает на кого он похож! Белки глаз испещрены тоненькими красными прожилками, веки лиловатого оттенка, на висках проступил пот. Орельен припудрил лицо, чего никогда не делал.
Закончив туалет, он напялил на себя парадное облачение и вновь взглянул в зеркало. Нужно вести себя так, как если бы… Ему удавалось довольно удачно избегать воспоминаний об этой женщине (он так и думал про себя: «эта женщина»), особенно если на глаза не попадалась маска. Орельен снял ее со стены, решив запереть в платяной шкаф. И долго стоял неподвижно, держа гипсовый слепок в руках.
Он запрятал его за галстуки, среди носовых платков… Когда в дверце шкафа щелкнул ключ, Орельен поднял глаза к пустой стене. А не предательство ли это? Чепуха, какая чепуха! Ведь главное — не страдать, не мучиться.
Обедать он пошел к «Максиму». В первом зале играл оркестр, кружились в танце пары. За столиками сидели посетители и дружно жевали. В баре — женщины, завсегдатаи. Зачем он пришел сюда? Пришел потому, что ему нравились здешние шторы, мелко-мелко плиссированные, с фестонами по старинной моде, похожие на дамские панталончики, нравились и здешние обои и обивка мебели в стиле «модерн», где в качестве основного декоративного мотива преобладали листья каштана. Пришел потому, что ему необходим был шум, замысловатый узор ковров и игра света, услужливое рвение лакеев; пришел потому, что ему хотелось убедить себя, что и он тоже принадлежит к этому обществу, к тому безликому нечто, которое живет и действует и в дни бедствий и в дни побед, связано с театром, с «Жокей-клубом», с полицией и капиталами, и это нечто для него и есть сам Париж. Ему хотелось отдаться на волю этого потока. И еще там были женщины, выхоленные, дорогие, они глядели на него, соображая, заплатит ли он или придется платить ему, женщины, которые проходят через вашу жизнь, не внося в нее осложнений, женщины с белоснежной кожей, ослепительными плечами, изнеженными ручками… Как знать… Орельен пришел слишком рано. Он тихонько попивал кофе с коньяком, когда в сопровождении Жака Шельцера и двух каких-то седеющих, элегантно одетых мужчин появилась Диана.
Читать дальше