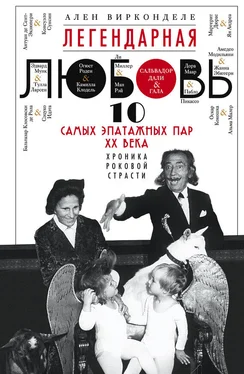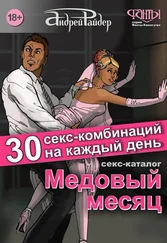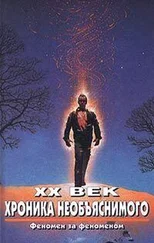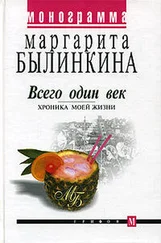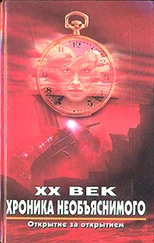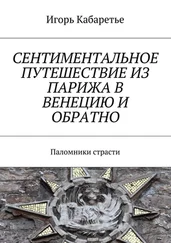И вот 24 февраля несколько сот человек собрались вокруг его останков. Была отслужена большая торжественная месса; ее служили местный приходский священник, архиепископ Варшавский и еще один священник. Так Бальтюс снова соединил себя со своими польскими корнями и связанной с ними католической традицией. В качестве сопровождения для церемонии семья выбрала мессу Монтеверди. Затем сыновья покойного, Фаддей и Станислав, поставили гроб в карету, которую везли две лошади. За катафалком следовала верхом на коне девушка, одетая во все черное. В шествии, как и следовало, было что-то поэтичное и нереальное. Падавший снег делал его похожим на фантастическую сказку. Гроб был задрапирован шалью, которой Бальтюс любил накрываться, когда в его мастерской было слишком сыро, и его мундиром рыцаря ордена святого Маврикия. Когда гроб опускали в могилу, музыканты трубили в рога.
Но это было еще не все. За гробом шли, сосредоточенно и взволнованно, не только жители селения Россиньер, но и знать, прибывшая со всех концов мира. То есть вместе шли «люди» и народ. В толпе узнавали Ага-Хана, Виктора-Эммануила Савойского, голливудских звезд – например Ричарда Гира, людей из мира театра и моды, а также певца Боно, которого Бальтюс особенно любил и который тихо пел для своего друга. Маленькая толпа испытывала совершенно необычное чувство: Бальтюс как будто шел вместе с собравшимися. В их памяти остались его улыбка – сдержанная, но лукавая, в которой была легкая ироническая насмешка над суетой этого мира, над тем, как ей можно воспользоваться, над необходимой ложью. Но главное в этой улыбке – глубокое убеждение, что нет ничего истинного и ничего ложного, все – правда и ложь одновременно. Бальтюс улыбался тому, что он, как герои сказок, которые он любил в детстве, играл с вымыслами, но при этом никогда не обманывал и оставался верен глубинной истине предметов и существ. По сравнению с правдивостью жизни в Россиньере, по сравнению с его смирением в старости, по сравнению с равновесием, которое поддерживала в его жизни Сэцуко, ложь и построение карьеры вдруг стали казаться суетными и смешными. Словно все наконец соединилось, все было собрано вместе и вновь стало единым целым в тот период жизни, когда он вернулся к образам своего детства, к доброжелательности Рильке, к материнской любви, к жизни в Альпах, с которой он сумел связать легенды и мотивы Японии – родины его жены.
В «Воспоминаниях Бальтюса» он сказал: «Те, кто верили, что я занимался созданием легенд, увидят, что ошибались. Да, существовала только эта жизнь – история художника, стоящего лицом к лицу с холстом, это сражение и эта связь, которую он сплетает каждый день, чтобы достичь этих минут озарения и, кроме того, достичь смысла. Я всегда верил в мудрость Востока, в ее обезоруживающую простоту. Действительно, «небо дает человеку столько даров, сколько он способен принять», как сказал китайский художник Шитао. Поэтому нужно всегда поддерживать себя в этом состоянии принятия и дарения» [217].
Маргерит Дюрас (1914–1996) и Ян Андреа (1952)
Священное чудовище и его добыча
Была ли долгая связь Маргерит Дюрас с Яном Андреа настолько случайной и настолько невероятной, как об этом говорили? Что это было – организованный заранее случай? Роковой удар судьбы? Или женщина-хищница средних лет, охотница до молодых любовников, поймала добычу? Или молодой честолюбец, новый Растиньяк, сошелся с ней ради карьеры? Как «эта любовь», как назвал их связь Ян Андреа, могла продолжаться так долго? Какие тайны души – а может быть, скрытые горести – были на первом плане в этом союзе, который оказался таким прочным, что продолжался больше пятнадцати лет и распался из-за смерти писательницы? Что в тогдашней жизни Маргерит Дюрас однажды, в день одиночества и отчаяния, заставило ее открыть дверь молодому студенту из Кана и решить, что он должен остаться с ней? Несомненно, это Маргерит все решила или подчинилась велению судьбы и в тот момент отдала себя в ее власть. «Осужденная писать», – говорила она о себе, подразумевая порабощение, заброшенность, одиночество и изгнание, которые может принести такая жизнь. «Осужденная писать» – пленница безумной любви к писанию книг. У этой любви она однажды попросит милосердия, открывая дверь незнакомому молодому мужчине.
Шел 1980 год, точней, лето этого года. Это было особое время для Маргерит: она провозгласила роль писателя священной и присвоила искусству слова высшую власть. Она будет промежуточным звеном, посредницей, а еще лучше – медиумом. В 1970-х годах она была на виду у мира и теперь еще играет роль бойца на всех фронтах, которую взяла на себя в 1968 году. Но в 1980-х годах она отказалась от захвата этих территорий. С этих пор она говорит, что подчиняется другим предписаниям и отвечает на другие вызовы. Марксизм и ситуационизм, ленинизм, иногда даже сталинизм, право исповедовать который она дерзко отстаивала, и феминистское движение уступили место Экклезиасту, Блезу Паскалю, Эмили Дикинсон и писателям более духовного направления. В 1970-х годах она исповедовала философию активности и переживала события того времени как последние следы военных лет. Что же произошло в промежутке между тем временем и этим новым отношением к писательскому творчеству – уходом в него как в монастырь? Каким своим душевным склонностям, которые ощущались уже в начале ее творчества, она теперь поверила?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу