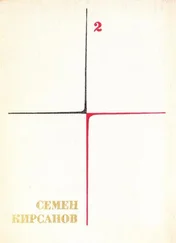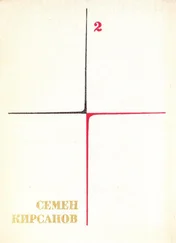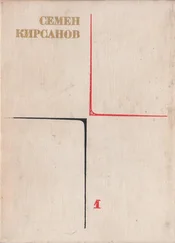Нас рвал колючей проволокой Гиммлер
и землю с нашей смешивал золой —
но человек не сдался, он не вымер,
он встал над отвоеванной землей.
Он бьет киркой по толще каменистой
грядущим поколениям в пример,
и, самый молодой из коммунистов,
«К борьбе готов!» — клянется пионер.
И жизнь-борьба нам предстоит большая
за самый светлый замысел людской,
и мы приходим, к жизни обращая
глаза, не помутненные тоской.
Какая б тяжесть ни легла на плечи,
какая б пуля в ребра ни впилась —
вся наша мысль о счастье человечьем,
о теплоте товарищеских глаз.
Когда вам было страшно и тревожно
и вы прижались к холоду земли,
я говорил вам строго: «Нужно! Должно!» —
и вы вперед моей тропой ползли.
Мое в атаках вспомнится вам имя,
и в грозный час, в последнюю пургу
вы кровь свою смешаете с моими
кровинками на тающем снегу.
Так я живу. Так подымаюсь к вам я.
Так возникаю из живой строфы.
Так становлюсь под полковое знамя —
простой
советский мальчик
из Уфы.
МАКАР МАЗАЙ
Поэма (1947–1950)
Пролог
Свеж и чист апрель.
Бьют часы на Спасской.
День прошел —
и Кремль
облит яркой краской.
Над багрянцем туч
встал Иван Великий,
и не сходит луч
с флага, что на ВЦИКе.
Месяц занял пост
под вечерним сводом.
Москворецкий мост
врос быками в воду.
Старый, бывший мост,
узкий и горбатый.
Кремль еще без звезд.
Год — двадцать девятый.
Звон уже стихал…
И в минуту эту
вдруг два пастуха
вышли к парапету.
Шапки мнут в руках,
удивились сами,
что вокруг —
Москва!
Кремль перед глазами!
Я узнал потом,
что в столицу с юга
поезд со скотом
шел,
и в нем два друга.
И один из них —
парень из станицы —
в памяти возник,
ожил на странице…
В сумерках потух
день Москвы тогдашней,
и слушает пастух
звон на Спасской башне.
Будто вдаль плывет
на мосту далеком,
и в жизнь
его зовет
свет кремлевских окон.
А ему — земляк:
— Что тебя тревожит?
Во дворце Кремля
еще ждут нас, может…
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Свет горел в Кремле.
Шел апрельский Пленум.
Час настал —
Земле
мчаться к переменам.
Час настал —
скорей
пересесть России
на стальных коней
крупной индустрии
и, меняя строй
всей народной жизни,
стать
стальной страной
при социализме.
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Пленум был за то,
чтоб, войдя в артели,
шел народ простой
к величавой цели!
Чтоб в расплаве руд,
у фабричных зарев
превратился
труд
в радость всех Мазаев.
Чтоб и жизнь себе
сделать ярче, шире
и поддержать в борьбе
братьев
во всем мире!
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон,
где дыханье бурь
проносилось в зале,
где его судьбу
в эти дни решали.
…Он стоял — пастух.
И, как стих пролога,
началась вот тут
в жизнь
его дорога.
Четвертый подручный
Небо — синий купол.
Море серебрится.
Город Мариуполь
весь под черепицей.
Крыши, крыши, крыши…
А вдали, повыше,
трубы задымили,
искры над печами,
домны заломили
руки над плечами.
Варят сталь мартены,
горячи их стены,
и летит оттуда
сажа от мазута.
В цехе из-под крышек
пламя так и пышет!
Сталь лежит живая,
взглядом обжигая.
Людям на заводе
горячо живется,
а завод в народе
«Ильичем»
зовется.
На заводе этом,
плавками прогретом,
есть один подручный —
с книгой неразлучный.
И об этом парне
шум по сталеварне:
— Шибко очень ходит!
Места не находит.
— Как на него «находит»,
все плохим находит!
— Пристает:
«Отстали!
Мало варим стали!»
Мол, трех не хватит этак
полных пятилеток!
Руки в шаровары,
и — заводит первый:
«Думал — сталевары,
а вы, мол, староверы!»
Тешится над нами,
кличет «колдунами».
Неудобно как-то —
паренек без такта.
Но работать может,
дела не отложит,
быстротой поможет.
Лишь кивни —
подложит
марганца ли, хрома, —
все ему знакомо!
Читать дальше