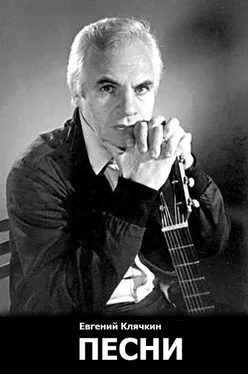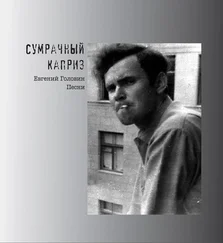Уверен — если захочешь,
вспомнятся и причины,
тем более — сколько было
говорено и везде.
Как мы объясняли прочим,
как прочие — нас учили.
Вот так вот и пишут вилы —
те самые, по воде.
И вооружившись всеми
словами, что нам пропеты,
а также — что мы пропели,
и песню, как компас, взяв,
из гнезд вылетали семьи,
роняя на землю беды,
туда, где земля теплее
и теплота в глазах.
Без всякой натужной фальши
мы грели в себе простое
и ясное чувство дома,
что ждет всех — до одного.
А что с нами было дальше —
об этом писать не стоит:
прекраснее ожиданья
не может быть ничего.
22–23 октября 1991
Никогда мне кабак
не дарил ощущения праздника.
Никогда в ресторане
я новой судьбы не искал.
И лишь в горе и в радости,
чтобы почувствовать разницу,
я друзей собирал,
но из рюмок глядела тоска.
Слава Богу — свинцовое зелье
не стало спасением.
Ведь спасения нет,
а иллюзии я не хочу.
Мне виски обдувают, свистя,
мои годы осенние.
Но, как прежде, стою я,
вернее — как прежде, лечу.
Ах, ничто не меняется в нас —
это вам только кажется,
будто снежные волосы
птицу заставят осесть.
Боже, сколько ошибок!
Но нету желания каяться.
Мы за все заплатили,
а это свобода и есть.
Слава Богу! В Израиле
трудно живется, но пишется,
и про то, что здесь трудно,
и что нас здесь вовсе не ждут.
Но надежда-волшебница
в парус залатанный дышит нам:
все, что мы не нашли, —
наши дети, наверно, найдут. —
Но надежда-волшебница
в ухо горячее дышит нам:
все, что вы не нашли,
ваши дети, уж точно, найдут.
31 марта — 5 апреля 1991
А ветер бродит за болотами,
и заперт наглухо чердак.
Но за сплошными поворотами
не разглядеть тебя никак.
А дом наш, как земля, вращается
вокруг оси, вокруг оси.
А ось кача-, а ось качается
(наверно, впрочем, как у всех).
Тропа коричневая с золотом
бежит от самых от дверей.
И мы не знаем, что на золото
ложится пыль календарей.
Но, боже мой, какая разница! —
календари у нас в руках,
и мы собрали вместе праздники
и просто взяли напрокат.
А волны нежно пахнут корюшкой
и нежно тычутся в баркас.
И камни с гладкой, нежной кожею,
как под коленками у нас.
Ты говоришь, что все изменится, —
я улыбаюсь и курю.
Нам ветряная машет мельница,
маяк мигает кораблю.
Но чем-то странна эта мельница,
как вбитый в землю вертолет.
И винт все вертится и вертится,
как будто небо достает.
И бродит ветер за болотами,
и пахнет плесенью чердак,
и за сплошными поворотами
не разглядеть тебя никак.
Не разглядеть никак…
21–22 июля 1966
Доброжелательная такая женщина из ДК пищевиков говорит: «Женя, мы ведь вам не рекомендовали петь песню „На море“ в Риге, а вы все-таки спели, и мы знаем об этом». — «Но она же лирическая. Ну что там такого…» Она: «Но мы вам не рекомендовали. А вы — спели!» И ведь говорила, то любит авторскую песню.
1990, Ленинград
У ней ноги — багряно-икряные,
у ней мелкие-мелкие локоны.
Дай протиснусь, дай около встану я!
Вот я воздух глотнул — гляжу соколом.
Я и сам парень хват — нарасхват,
у меня ли не рыжие волосы!
Взять, к примеру, хоть наших девчат —
так и льнут, словно зернышки к колосу.
А она головы не ворочает, —
и куда уж вертеть — шейка тумбочкой.
А потом говорит: «Если хочете —
посидимте вдвоем, только туточки!
Не лягай на меня!.. Отодвиньтеся!..
Я те что!.. Ну, кому было сказано!..»
(А у меня уже крутятся винтики —
как бы в парк ее… этого… самого…)
А идет! — ну корма, доложу я вам!
что тебе ледокол, что те рыба-кит.
Говорит, что зовут Настя Зуева
и что в бригаде у них — все ударники…
…Я ее в общежитье везу сейчас.
Парни глянут на нас — лопнут с зависти!
Сколько, скажут, добра отхватил зараз!..
…Только я не такой — жрите! хватит всем!
15 июля 1965
На Театральной площади,
немножко театрально,
стоял я, опершись плечом
на оперный театр.
А каменные кони
оскалились нахально,
и каменные ноздри
их выбрасывали пар.
Профессор Римский-Корсаков,
привстав на пьедестале,
никак не мог подняться,
чтоб руку мне пожать.
А я стоял и бредил
то славой, то стихами,
стихами или славой —
ну, как их не смешать!
Читать дальше