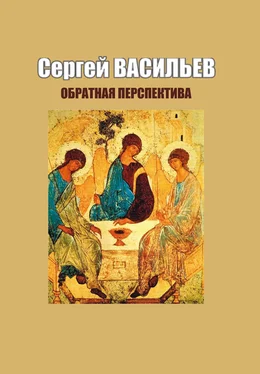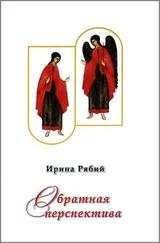По небу аки посуху. В хлеву
Останется овца. А там Египет.
Отчизна выпита, и воздух выпит
Архангелом. А я-то что реву?
Смоковницы и Гефсиманский сад,
Потом петух орет четыре раза,
Петр камень в карты выбросит, зараза,
А смоквы все висят, висят, висят.
Слепая ласточка опять заголосит
И молвит, бледная: живи, дружок, покуда
На горестной осине лишь Иуда,
А не Христос рассерженный висит.
«А Создателю вновь хвала…»
А Создателю вновь хвала —
Его желчь отыщешь с трудом.
Вот твой храм, сгоревший дотла,
Вот твой странноприимный дом.
И в серебряной нищете
Что же делать, Господь, прости,
Горемычному сироте?
Разве руки крестом сплести.
Из-за пазухи нож кривой
Ночь достанет, станет, как зверь.
Ты поверишь, что я живой?
Умоляю тебя, поверь!
«Я живу, как Бальзак и как Пушкин, в долг…»
Я живу, как Бальзак и как Пушкин, в долг,
Я родился почти в сорочьей сорочке,
Потому и никак не возьму я в толк,
Откуда берутся эти вот строчки.
Откуда грешная эта земля,
Откуда безгрешная эта корова —
Для смерти для, для бессмертья для
Иль для святого небесного крова?
Я иду по берегу державной реки,
Так иду, по самому краю.
Ловят рыбу радостные рыбаки,
А я рассвет выбираю.
А еще сирень, что на берегу,
Белая, словно печаль былого.
Я ее, милую, сберегу,
Только об этом ни слова.
«Вещун-кузнечик, бормочи…»
Вещун-кузнечик, бормочи
Свое заветное желанье,
Веди беспечность на закланье —
Оно сбывается в ночи.
В особенности среди трав,
В росу горячую одетых,
При взрослых бормочи, при детях —
Не всякий взрослый костоправ.
Но дети – дети слышат впрок
Твою волшебную молитву —
Не как судьбу, не как ловитву,
Не как заученный урок,
А как внезапный Божий знак,
Смущенный мыслию большою,
Парящий тихо над душою
И приходящий лишь во снах.
«Жил человек. Соловьев и бабочек слушал…»
Жил человек. Соловьев и бабочек слушал.
Ел что попало, лягушек одних не кушал.
Щи хлебал и парное пил молоко,
Женщин любил – растерянно, одиноко.
Господи, как же их было много!
А потом ушел далеко.
Жил человек. И жизнь была не напрасна.
Жил человек, как будто не в первый раз, но
Всегда казалось, что он умрет вот-вот.
Жил человек – и друзья у него были:
Одни его презирали, другие – любили.
Жил человек. До сих пор, небось, живет.
Не бывать добру и злу,
Если волк нырнет в подъезд.
Муха ходит по стеклу
И мои коврижки ест.
Волк – он ладно, он такой,
У него печаль чела.
Выпить, что ль, за упокой
Мухи, злющей, как пчела?
Только ночь и только волк,
Только звездочки одне
Знают в этой жизни толк —
Тот, что непонятен мне.
Оглянусь и встрепенусь —
Где там волк, а где луна?
Да неужто это Русь?
Русь родимая, она.
«В воде по горло жирные стада…»
В воде по горло жирные стада,
Глаза травы следят за ястребиным
Корявым клювом – он летит к рябинам,
Краснеющим внезапно от стыда.
А где пастух? Под ивой возлежит
И пищу вдохновенную вкушает.
Его никто пространства не лишает,
И жизнь его никто не сторожит.
А ястреб, медленно слетев с куста,
Вдруг шевельнет напыщенною бровью
И окропит рябиновою кровью
Земли потрескавшиеся уста.
«Свари пельмешки, милая! Потом…»
Свари пельмешки, милая! Потом
Мы погрустим, а может, и поплачем,
И жизнь свою опять переиначим,
Войдя, как в озеро, в родимый дом.
Не жизнь странна, а русская страна —
С медведями, с морозцем, со снегами.
И пусть струна еще звенит в тумане,
Но боязливой стала и она.
А вот пельмешки, правда, хороши —
Так в рот и просятся! Посыпь их перцем,
Благослови их, радостных, всем сердцем
И водочки в рюмашку накроши.
«Поставишь на газовую плиту кофейную турочку…»
Поставишь на газовую плиту кофейную турочку,
Нальешь в бокалы вино, которое сулема,
И игра в дурака оборачивается игрою в дурочку,
На которой негде даже ставить клейма.
Читать дальше