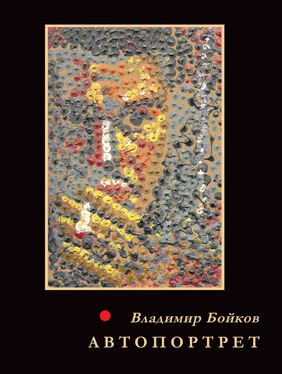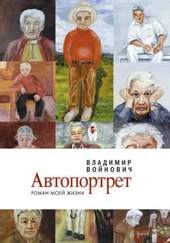«Мороз ночной скрепил узор…»
Мороз ночной скрепил узор
дорожный, и скрипуча корка,
и шаг размашистый не скор —
я чутко слышу, вижу зорко:
почти прозрачны облака,
сквозные звезды голубеют,
гул поезда издалека
то нарастает, то слабеет.
«Смеркли сумерки до мрака…»
Смеркли сумерки до мрака.
Двор – полночный ларь,
полный звезд.
Свеча маньяка —
уличный фонарь.
В нем накала лишь для нимба
на верхах столба,
весь баланс его олимпа
в вакууме лба.
Все ль равно в низах и высях:
там звезду в стихи
сковырнул, там искру высек
и вознес в верхи?
Все равно, когда зарею —
золотой метлой
заметет все – все закроет
голубою мглой.
«Есть предрассветное единство…»
Есть предрассветное единство
сознания и бытия,
когда звезды упавшей льдинка
осветит почек острия,
а все высоких рощ убранство
уже под инеем в ногах,
и вдруг означится пространство
миров – цветами на лугах.
И не звезде в кончине быстрой
возобновление прозреть:
Вселенной быть и божьей искрой
в глазах ничтожества сгореть!..
«Влюбленный два мира объемлет…»
Влюбленный два мира объемлет:
в объятиях женщина дремлет,
утишились в ней два ненастья,
две муки – усталость и счастье,
и локоть доверчиво согнут.
Забылись часы и не дрогнут,
и медленно время влачится
дыханием по ключице,
которым влюбленный и занят.
Тем временем в кране на кухне
холодная капля набухнет
и посюсторонностью грянет.
«Люблю прикосновенье трав…»
Люблю прикосновенье трав,
перемещающийся воздух
да искры жаркие костра
в сквозящих звездах.
Но здесь, близ вечности самой,
открывшей щелку,
я все равно хочу домой —
к жилью, к поселку.
Новосибирск. 1967–1968
Вот со смертью
бессмертие —
шляются.
Смерть идет,
смерть бредет,
что попало
берет,
а бессмертие —
разбирается!
Голубая ночка,
тихая кроватка.
Баю-баю, дочка,
баю-баю, сладко!
Спят в твоей коляске
куклы, погремушки.
Баю-баю, глазки,
баю-баю, ушки!
Дремлют в небе тучки,
во поле дорожки.
Баю-баю, ручки,
баю-баю, ножки!
Вырастешь большая,
выспишься уж редко.
Баю-баю-баю,
баю-баю, детка!..
НОЧЬ
Затронутые закатом
роднятся предметы,
пора музыкантам
пробовать инструменты,
голубок прирученных
пальцам ласкать,
листьям беззвучию
рукоплескать,
звездному отточию
высыпать пора.
Прозревшему ночью
ослепнуть с утра.
Ты люби меня, беда,
чтоб хмельна в Оби вода,
чтоб звенели все медали,
чтобы издали видали!
Чтоб оляпка
выплывала,
что лебедушка,
чтобы бабка
танцевала,
что молодушка!
Чтобы каждый, проходя,
все оглядывался!
Я б тогда тебе, беда,
не нарадовался!
У нее на губах,
на губах дурман,
ах, дурман на губах
у нее играет,
а в глазах туман, —
ни вот столечко не пьян, —
ах, туман в глазах, туман
синим пламенем пылает!
Не в зеленом лугу,
а в укромном углу,
там на белом снегу
розовеют два цветка.
Тут бы шмель и обомлел.
Я же попросту незряч:
рвется тонко
рубашонка,
белый снег под ней горяч!
Ой, хватило духу
влюбиться в молодуху!
Горек осенью вербный цвет, —
солнцу осенью веры нет, —
от морозов цвет избавить,
разве в дом занести,
на окошечко поставить,
дать еще поцвести.
Пришла б скорей
и ты узнала б:
свист снегирей —
что флейта жалоб.
Свист снегирей —
что флейта жалоб.
Пришла б скорей,
поцеловала б!
От жалоб слаб,
и, если знала б,
ты не пришла б,
а прибежала б.
Пал не лист с березы
высокой,
не сронил перо
ясный сокол —
перышко сорвал
скорый ветер.
Сокол тосковал —
не заметил.
Глубока ли кручина?
Далече ль?
Аль причиною
лебеди плечи?
Тучи знаменьем
низко повисли.
Ты одна мне
на свете по мысли.
Пропали в белом белые,
на ветки слезы нижутся,
протяжен крик точильщика:
– Точу ножи и ножницы!
С тончайшим звоном точатся
с точила искры снежные,
точна рука без жалости
и – ласковая – пробует
на волос ветра лезвие.
А белый лебедь спит,
и горло под крылом.
Читать дальше