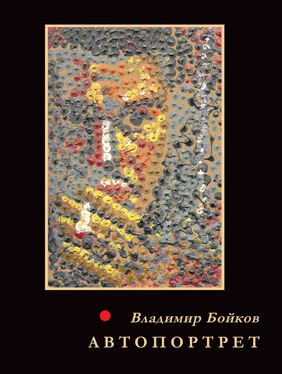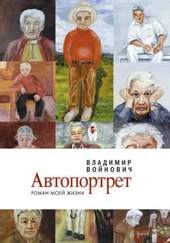И снова возвращается гулена,
когда краснеют ветви оголенно
в березовом лесу и ветер влажный
гоняет по асфальту клок бумажный.
Во всякий час – едва за город выйдешь —
одну ее хлопочущую видишь,
когда в руках, подобных смуглым соснам,
белье снегов полощется под солнцем,
чтоб на ветру повиснуть для просушки, —
и облачные пухлые подушки
на синие ложатся покрывала.
Как будто слишком долго изнывала
по мужней ласке, по судьбе домашней,
по выстланной половиками пашне —
и вот вернулась к хлопотам гулена!
И думаешь о том ошеломленно:
она – пора души или погода?!
И не заметишь вновь ее ухода…
Избылось пламя – только в сучьях
шныряет мышь огней ползучих.
Мы с непонятной смотрим болью
на негодящие уголья,
и наши мысли не о ближних,
но близкое в них есть одно,
что каждый в сущности окно
на грани жизни и нежизни.
Задумываюсь, озарен
такой же мыслью: с двух сторон
глядят в огонь и из огня
какие силы сквозь меня?..
Судьба разводит, как свела.
В грядущем – тьма.
А ночь, как никогда, светла —
сойти с ума!
Пусть слезы просятся к лицу —
нам не к лицу!
Мы в человеческом лесу,
как на плацу.
Все так же мне верней зеркал
твои глаза,
а то, что рвется с языка, —
замнет вокзал.
Разлука страшная беда,
но горший страх —
вдруг стать чужими навсегда
в двух, трех шагах!
Слетит с руки руки тепло,
как ни держи.
Да будет памяти светло
всю ночь, всю жизнь…
«Изволит августейший август…»
Изволит августейший август
подзолотить густейших трав вкус
и, мед даруя, повторять:
– Я не намерен умирать!
И ливень лихо накренится
и станет, рухнув на грибницы,
громовым рокотом играть:
– Я не намерен умирать!
Усталый день, клонясь к закату,
даст разгадать свою загадку —
несчетна ликов его рать:
– Я не намерен умирать!
Весь в зернах звезд вселенский купол,
давно бы черт все это схрупал,
да не дано к рукам прибрать:
– Я не намерен умирать!
Не слишком я в себе уверен,
по крайней мере я намерен
хотя бы мигу подыграть:
– Я не намерен умирать!
Тропа в туманные пещеры.
и чистый месяц высоко.
Здесь рай бессмертного Кащея:
бурьян, крапива, частокол.
Туман прикрыл ручей и крыши,
и звездам в нем не утонуть,
лишь искры их слегка колышет,
когда приходится вздохнуть.
Пасутся лошади на склоне,
роняя колокольцев звон.
В моей пустейшей из бессонниц
счастливый воплотился сон.
«От жизни и любви счастливой…»
Проснулся и не мог понять: снилось ли
Чжоу, что он – бабочка, или бабочке
снится, что она – Чжоу"
(Чжуанцзы)
От жизни и любви счастливой
безумцем стал я в сновиденьях:
цветущие исчезли сливы
в пустых смятениях осенних.
Похоже, и тому безумью
сны полагались протоколом,
где от садов, шумящих шумью,
хватало счастья мне и пчелам.
Еще не отошел от сна и
увидел снова в сон я двери…
Теперь, наверное, не знаю,
в которой пребываю сфере.
Уже душа отчаянным
продута сквозняком,
и неотступным таяньем
набух сердечный ком,
и долго не уменьшиться
ему и все болеть —
еще не меньше месяца
снегам в логах белеть,
и кажется, не так ли мне
судьба прервет полет,
как вспыхивает каплями
под стоком стылый лед!
«Сквозь изгородь и садик…»
Сквозь изгородь и садик,
сквозь дом проходит путь,
которым скачет всадник
и не дает уснуть.
Не ты ли в самой гуще
безудержной езды?
Дороге той бегущей
неведомы бразды.
Не зная мыслей задних,
вперед, всегда вперед
и рядом скачет всадник,
вращая звездный свод.
Под теми ж небесами
часы стучат «цок-цок!»,
и всадник тот же самый —
в подушке твой висок!
Новосибирск. 1962–1966 Целиноград. 1965 Новолушниково. 1966

В. Бойков в шляпе. 1976.
Рисунок М. Шапиро
«Распахни окно – слуховой аппарат…»
Распахни окно – слуховой аппарат
к горлу парка:
перепелиная – спать пора! —
перепалка
и пропитан до сумеречных высот
воздух смолкой.
Возведется и вызвездится небосвод —
все ли смолкнет?
Здесь оркестра, наверное, не собрать —
так, осколки!
Только песне расстроенной замирать
там, в поселке.
В заполуночье кратком не спи,
дремы узник:
что куется кукушкой – копи
в леса кузне.
Сколько все ж ни успел примечтать —
не с лихвой ли? —
начинаешь из будущего вычитать
поневоле.
Читать дальше