И всё на свете понимая,
асфальт травою пробиваю,
над головою замечая
уже качнувшийся каблук.
Но этот краткий миг свободы!
И опьянение от ветра,
что жёлтым слоем волглых листьев
дробит мельчайшую росу.
И знаю: будет снег и холод,
чехлы узорные на травах.
И облака, как в микроскопы,
заглянут в каждую трубу.
Но жить, как прежде, я не стану.
Но жить, как прежде, я не буду.
Но жить зародышем под снегом
и лета ждать я не могу.
Скользит игла на повороте
лидирующим конькобежцем.
Всё так же светятся лимоны
на отшлифованном полу.
Зелёный огурец и чёрный хлеб.
И соль рассыпана на простенькой клеёнке.
И занавески белый след.
И ветер тёплый, словно волосы ребёнка.
Прогреты солнцем ветви и листва.
И даже воздух разомлел от лени.
Тёмно-зеленая картофеля ботва.
От взбитых облаков ползут по полю тени.
И всё вокруг томится от жары.
И даже бревна от жары дымятся.
И лишь колодцы полны глубины.
И вёдра, как собаки на цепи,
и высунуты, будто языки
воды холодной из вёдерной пасти.
Зелёный огурец и чёрный хлеб.
Оса ползёт по срезу помидора.
А за окном – длиннющая дорога.
По пыли шлёпает трёхлетний человек.
Ты умела летать.
А мне приходилось латать твои крылья.
Как холодный сапожник или портной,
c огромной иглой —
я латал твои крылья.
Ты изредка, не всегда,
но залетала ко мне в облака.
А потом
ты улетала.
Но я помню, как ты сидела,
закинув нога на ногу,
и несла ахинею о свободе любви.
А потом
ты улетала.
Я говорил сквозь зубы с тобой,
но не потому, что не хотел говорить.
Просто попробуй, когда зубы с иглой
или обрывают просмоленную нить.
А потом
ты улетала.
Мне часто хотелось,
как Ивану-царевичу,
сжечь крылья твои
и слова о свободе любви.
Но толку от этого, толку?!
Потом иди
то ли к Кащею, то ли к волку.
А потом
ты улетала.
А мне всё время
не хватало времени
сшить крылья себе.
И, подхватив тебя,
унести к новой звезде.
Где пахнет рекой,
где пахнет травой,
где утрами поют петухи,
где туманы над озером тают…
Почему?
Почему?
Почему?
Мне тебя
без тебя
не хватает?
Болью расколот орех головы.
Нити-извилины в ниточку вытяни.
Не до любви.
Не до любви.
Русла слов, а значения – высохли.
Варвары бритоголовой совести —
на пепелище прежних надежд.
Не начинаю новой «повести».
Мне наплевать, вы одеты иль без…
Ах, поэтические ура-реактивщики!
Птички небесные,
аля-петухи,
рвитесь повыше – простора побольше…
Не до любви,
не до любви…
Космос – за пазуху.
Деревья – в веночек.
Атлантику – в ванную.
Чёрное – в таз.
Что мелочиться?!
Ночь негритянкой
на взбитое облако улеглась.
На перепутье, где путы дорог,
не отрешился и не решился.
Спутать бы след вчерашних строк.
Не получился.
Не получился…
И не глагольте: «Рифм ассонансы».
На рифах-рифмах образы гибли.
И не Помпеями, не Атлантидой —
монстром тяжёлым в жидкую глину.
Не получился… не получился…
И влажные ночи, как чьи-то губы,
слово последнее мне нашептали.
Явился, присел на диван.
Прищурился, пращур соблазна:
– Как жизнь? Ты ещё не устал?
Комедия или драма?
Достал носовой платок
размером с пол-океана.
Вытер сократовский лоб:
– Наверное, всё-таки драма.
Вопрос мой предугадав
(тяжело разговаривать с чёртом):
– Обращайся ко мне на «ты».
Пошли воспитанность к чёрту! —
Сказал, а потом, закурив,
пустивши колечко дыма,
прищурил зелёный свой глаз
и начал медленно и длинно…
Я сидел в кресле спокойненько,
но в комнате пахло покойником.
Он перечислял имена великих,
будто щёлкал курок пистолета.
А за окном мутно
несла свои воды Лета.
– Вон, видишь? – сухой палец, как дуло. —
Он не согласился – и как ветром сдуло.
А помню, пришёл к Есенину в чёрненьком,
а он спьяну не разобрал, кто я и что…
И, право, не знаешь, когда и где
окончишь свой путь на бренной земле.
Читать дальше







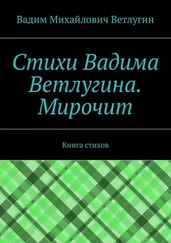

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)


