И жить готов хоть миллионы лет.
И кажется, что счастье бесконечно,
что вечен этот яркий тёплый свет,
что вниз, как сорванец, летит беспечно.
А неудачи, за стволами прячась,
тебя из вида не теряя, ждут,
когда восторг неведомо откуда
вдруг оборвёт стремительный свой путь.
Когда споткнёшься – одиночество под ноги
тебе подбросит новая судьба.
И загудят в задумчивой тревоге
ночами телеграфа провода.
Когда друзей терять ты будешь, ночью
ты у окна бессонно простоишь.
И женщина, прикрывши дверь, уходит —
навстречу шли, да видно разошлись…
Но всё равно, судьбы своей не зная,
я настоящее без ропота приму,
когда восторг неведомо откуда
ворвётся неожиданно в судьбу.
Когда восторг неведомо откуда…
Не предрекая боли флейты,
не сетуя на медленную синь,
я предпочту из книг, из музыки, картин —
лицо зеркал, где волосы от ветра.
Шары от сквозняков на влажные паркеты.
Под солнцем плавится забытый пластилин…
О, разреши мне, Бог и властелин,
увидеть в зеркале ожившие портреты!
Но открывая слой за слоем,
как перелистывая мокрые страницы,
твои глаза – зелёные синицы —
из амальгамы просятся на волю…
И отпустила зеркало стена.
В осколках больше нет ни света, ни лица.
То ли снег уж не тот,
то ли стянуто пошлостью тело.
То ли ходит в мозгах
из больничной палаты Ньютон.
Отыскать бы у Бога архив
и найти своё тощее «Дело»
в серой папке с тесёмками
новеньких красных шнурков.
И узнать приговор:
отчего я живу так нелепо,
приглашая в дома
бесконечные сонмы невзгод?
Вот уже на столе
не хватает ни рюмок, ни хлеба,
а удача давно
не садится за праздничный стол.
Может быть, на вокзале сидит
в ожиданьи билета
среди спящих людей,
с равнодушно усталым лицом.
Или в тесном салоне
летящего лайнера где-то,
потому что пурга
занавесила аэродром.
Или, может, она
у огня, у тепла, у уюта,
где притушенный глаз
и мурчанье седого кота,
повторяет стихи
из прошедшего века поэта.
И гранит на стекле
ювелирные пальмы зима.
Или, может, она
всё не может покинуть ту лодку,
где смеётся вода
и притворно девчонки визжат…
Самолёт высоко
разрезает земли оболочку.
И поддатые ангелы
с неба меня матерят.
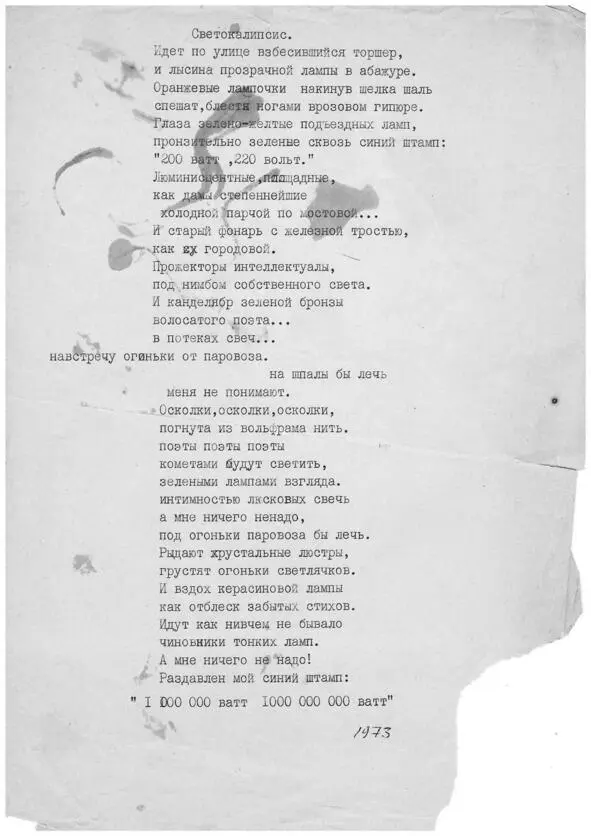
Идёт по улице
взбесившийся торшер,
и лысина прозрачной лампы в абажуре.
Оранжевые лампочки,
накинув шёлка шаль,
спешат,
блестя ногами в розовом гипюре.
Глаза зелёно-жёлтые подъездных ламп
пронзительно зелёные
сквозь синий штамп:
«200 ватт, 220 вольт».
Люминесцентные, площадные,
как дамы степеннейшие, дорогие —
холодной парчой по мостовой…
И старый фонарь с жёлтой тростью —
как городовой.
Прожекторы – интеллектуалы
под нимбом собственного света.
И канделябр зелёной бронзы
волосатого поэта в потёках свеч…
Навстречу – огоньки от паровоза.
На шпалы бы лечь…
Меня не понимают…
Осколки, осколки, осколки…
Погнута из вольфрама нить.
Поэты, поэты, поэты
торшерами будут светить.
Зелёными лампами взгляда.
Интимностью ласковых свеч.
А мне ничего не надо —
под огоньки паровоза бы лечь.
Рыдают хрустальные люстры.
Грустят огоньки светлячков.
И вздох керосиновой лампы —
как запах забытых стихов.
Идут, как ни в чем не бывало,
чиновники тонких ламп.
А мне ничего не надо!
Раздавлен мой синий штамп:
«1000 вольт. 100 000 ватт».
Вам о любви набаюкать надо бы.
Да в глотке звук шершав, как тёрка.
Вам о нежёночке бы вполголоса.
Но стою, освещённо-немой,
под прицельным молчанием Вашего холода.
Для Вас, по-хорошему, слово бы вычеканить
блестящей, бронзовой безделушечкой.
Но профиль в окне чеканится.
«Душно, – молчу я. – Душно».
А что я ещё умею,
никчёмный, наполненный строчками?!
Ну, хотите, и я раскрою
зрачки своего голоса?!
Но во мне постепенно сгорают деревья.
Пустыня – как тело припала к земле.
Но во мне снимают грим актёры,
оставляя усталость на вечернем лице.
Читать дальше

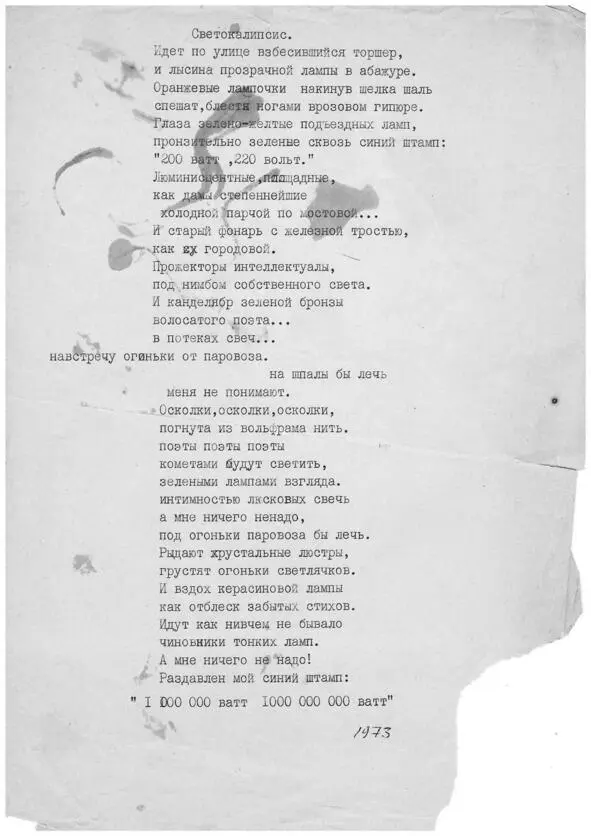






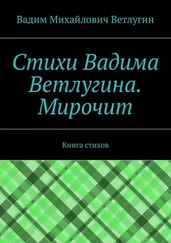

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)


