Летели клочья лопнувших колёс…
Я возвращаюсь к тому,
от чего уходили строго.
Вымощена для меня
бульдожьим булыжником дорога.
Цепок наш масочный строй
нечеловеческих лиц.
Опоэтизирован вой
хризантомных девиц.
Белочка в колесе —
поэзия, век двадцатый.
Ворочается во мне
поэзии конь пархатый.
Душа уже не душа —
авгиевы конюшни.
Эй, вы, двухметровый Геракл!
Очистите человечьи души!
Я измерял себя:
затылок слепым глазом.
Атлант держал небеса —
я от тяжести падал.
Между челюстей одиночества —
скрипом зубовным.
И в раздетые ночи,
словно шест (у прыгуна с шестом),
прогибается мой позвоночник.
И возвращая рубеж, что прошёл,
ком волнения сухо глотая
(скрипит песок ненаписанных строк) —
пересыхаю… Пересыхаю.
Что ещё надобно? Мелко – подобие!
Универсальность: везде понемножку.
Унифицирован – под белый мрамор.
Копию лью обнажённой ножки.
Плачьте ночи, в плащи кутаясь.
Прорехи поэзии рядите хитонами.
Мы – не поэты. Мы – не философы.
Нас измерять надо бы тоннами.
Но не от гения, не от титанства
мера подобия – графоманство.
Сермяжная правда не хуже, чем пунш в хрустале.
Посконной рубахой запахнет,
соломой прогнивших овинов.
Но он занимательней —
совестью впитанный страх,
сложнее сюжетов зачитанных вдрызг детективов.
У истины привкус разбитой губы и мочи.
Собакой бесстрашной —
у неё не осталось надежды.
Но правда – как тело в оранжево-синих рубцах.
И тьма не спасёт. И болезненны телу одежды.
И клинья вбивают в сухой сухожилистый ствол.
Бревно раскрывается древней ладьёй фараона.
Но то, что узналось,
хранилось когда-нибудь в нём?
Как камни, скатившись,
открыли ли катеты склона?
Давно я замыслил от правды сермяжной побег.
Ни воздух вобрать
в обожжённые сухостью фибры.
Ни скатерть разбросить и медленно сесть за обед,
манжеты встречая,
цилиндры, костюмы и фижмы.
Дарует царица свои золотые плоды:
– Вкушай, дорогой. Дорогие тебе угощенья.
Но в брошенном доме
гуляют, как свиньи, клопы —
десятая ложь из десятых моих измерений.
А мэры стучат – у героики принцип один —
как рыцари после шутейских забав и отваги.
Знамёна —
то с чёрным, то с пурпуром спорят своим,
как лошади гривами в конно-военном параде.
Прощай, осторожный мой сон из зёленой хвои,
цветы хохотунчиков, слово воздушных полётов.
Я «дугласом» лягу среди травяной мишуры,
среди плавников позабытых давно самолётов.
Открытие правды – как новый открыть материк.
И матом попробуй потом не сумей захлебнуться.
И нить Ариадны дана нам лишь только на миг —
вкруг шеи
чему-нибудь надо когда-то сомкнуться.
Ты жив, но не жил. И не хватит нам жил
ни вытянуть, ни подтянуться.
Наверно, и впрямь обезумел весь мир,
когда ты, безумный, не можешь вернуться
к зелёной хвое, к блестящему псевдодождю
среди января, среди холода, взрыва хлопушек.
И вытянув в трубочку губы, я тихо скажу…
Погаснет оранжевый пламень у свечных игрушек.
Довольно…
Сермяжная правда снимает тугой макинтош,
роняя к ногам
неизвестно-холодные капли.
«Закат сквозь пыль и дребезг проводов…»
Закат сквозь пыль и дребезг проводов,
сквозь шум, домов лобастые граниты,
ворвался красным, лопнул и облил,
и высветлил, и в комнаты вместился.
И вылетев обратно, красным зверем
прищур раздал, как пачки ассигнаций.
Актёры так цветы бросают в зал,
пунцово красные под сполохи оваций.
Распался – до отдельности луча,
линеек музыкального начала.
А после небо с облаков смывало,
как кровь с халата сельского врача.
Скрипичные сонаты лета
всё ближе, и земля светлей.
В душе потерянных людей
любовь —
смычком на дне футляра.
Но веток тонкое начало
уже ломает неба лёд.
И виден воздуха полёт,
которому и неба мало.
А на прощанье будет так:
ты в зеркалах свой взгляд оставишь.
И не вернёшь его назад —
ты для меня его оставишь.
Читать дальше







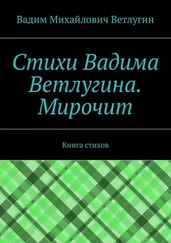

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)


