Вот он ближе – плащ красный,
по золотому узору крюк абордажный рога.
Бледен тореро – трудное дело.
Надейся на бога.
Мягок бок. Луком перетянутым
лопнуло ребро.
Такова жизнь, Адам.
Каково?
На третьем ряду – платок ко рту…
Страшно?
Но и я тоже жить хочу.
И это ужасно…
Он взлетает вверх беспомощно и нелепо.
Чем отличается бык от человека?
Философию – к чёрту!
Философия – для стойла!
Плевать мне на ваше сено!
Плевать мне на ваше пойло!
Рогом потрогать?
Надо же, встал!
Кровь из бока густа, как гудрон.
Но что это?! Снова порванный плащ.
Снова на бой приглашает он.
Боже! Я был когда-то Сократом,
пиратом в Средиземном море.
Пастором был, и был адвокатом.
Сослан в быки после запоя…
Встали трибуны, вытянув выи.
Крови вам мало в собственных жилах?
Кто там на третьем
в кулак зажимает мокрый платок?
Алые губы так любили трогать
влажно-красный цветок.
В тёмные ночи душного лета
пахнущих яблоком спелых колен
прикосновенье рождало поэта
и минотавра в лабиринте вен.
Как дирижёра вверх пошла рука – крещендо!
Тяжело ходят бока, мои бока.
Финита ля комедия… Остановиться! Но поздно —
между лопаток проходит клинок ровно.
Господи! На колени —
не перед ними, перед Тобой.
Не дай мне, Господи, ни быком, ни тореро
быть в жизни другой.
Сквозь полуприкрытый веком зрачок
вижу трибун красный овал.
Прощай, мой телячий родничок,
жёлтый цветок, прощай…
С третьего ряда на арену – платок —
на мохнатые ресницы, прикрывшие зрачок.
«Уже рассветает, но запахи ночи остались…»
Уже рассветает, но запахи ночи остались.
Как женское тело фрагментами гибкой волны,
кусты свою плоть акварельной листвы обретают.
И катится шар, собирая лепнину воды.
У камня – удар,
и у вскинутой ветви – в испуге
купальщицы стыд, прикрывающей тело рукой.
Уже рассветает,
но запахи ночи остались —
к ворсистой осоке прилипли зеркальной росой.
На каждый свисток
неуверенный ветреных певчих —
шутливое эхо,
иль, может, шумливый собрат
бросает ответное зеркальце
ломкого свиста —
так ивы изогнутость
воду стремится достать.
А я – ни к чему.
Ни свистеть, ни летать не умею.
Латаю свой день
из прошедшего полдня куском.
А флейты лучей
в анфиладу стволов проникают.
И ясень по-птичьи шевелит зелёным пером.
Прими меня, день!
Из повтора раскрыта молитва.
Не бойся моих осторожно-тяжёлых шагов.
Прими меня, день!
Этой жизни строка не дожита.
Но буду я свистом,
и кольцами этих стволов,
и камнем, ребристою жестью осоки,
и кругом воды – по агату уходит резьба…
Но дай мне прожить твоим другом,
а может, собратом.
Прими меня, день! – умоляю тебя.
Пробую заново в сотый —
то в крик срываюсь, то в шёпот.
То рукоплесканье, то топот
непоэтично ревущих: «Против!»,
плечеобнимочно-шалевых: «За!».
Как тяжело найти себя
в этой вокзальной толпе
отправляющихся,
где разделились на провожающих,
на сомневающихся,
на обнимающихся.
Только любящие опаздывают,
как всегда.
В прошлое отправляются поезда.
Толпа из одного друга.
Вот он – в фас,
а вот – в анфас.
А вот – в затылок,
когда тебе было туго.
Старый знакомый
волочёт времени трюмо,
в котором качается отражённая девушка
в чёрном трико.
Младенец выросший, несёт себя, кроху.
Дед, закутанный в плед,
тащится, как на Голгофу.
Господи! Это?
Это же я!
Привет! Узнал?
В ответ: «Нет».
Поезда, поезда, поезда —
отправляются.
Вагон на скорости шатается.
Пробираюсь, место свободное ищу.
Вот пустое купе.
Нет.
В углу – незнакомка,
как книга в глянцевой суперобложке:
– Вы это читали?
– Нет. Я это пишу.
А в окна вагона – то ветер, то снег,
то осень качает желтящие листья.
А вот по шпалам идёт человек.
Что же он, поезда что ли не слышит?!
Стоп-кран!
Летят с полок чемоданы.
Проводник с чаем летит в конец вагона…
Стрелочники виноваты.
Причалили к чужому перрону —
чужому, чужому
перрону! Перро-о-о…
нууу чужо-му…
Читать дальше







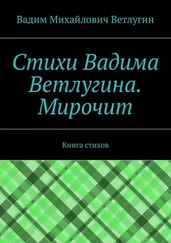

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)


