Я был дракон, почти одомашненный —
к коленям твоим языком шершавым.
Так с крышки консервной
когда-то в детстве
слизывал сгущёнки белые капли.
Светил глазами в темноте доверчиво,
гася огонь, как в топке паровозной.
Ворчал, но слушался тебя, женщина,
почти ручной, почти покорный.
Не крал царевен в тридевятых царствах —
всё это сказки, всё это бредни.
И крылья-зонтики вешал мокрыми
в параллелепипеде тесной передней.
В жару ногами босыми радуясь
половиков цветной мозаике,
сидел очкастый и ошарашенный
с толстенным томом по маразматике.
Но кто украден – куда-то рвётся.
Узлы разрублены – виват, свобода!
И я сжигал города и сёла
и крал царевен из тесных спален.
Но всё опять повторялось заново —
мне вместе с сердцем отрубали голову.
И на шабаш улетали ведьмы
над гордым городом, прекрасно голые.
Стучали стёклышки калейдоскопов.
Лица менялись, как в медленном поезде.
И снег осыпался стеклом осколков.
И солнце осыпало деревья золотом.
А глаза мои, как камни, плавились —
лопнувших градусников ртуть сквозь веки.
И снова хотелось быть одомашненным,
и снова хотелось быть человеком.
И слова роняя, как цветы, через паузу,
слепо вползая в своё логово,
я искал в темноте твои колени,
чтоб на них положить лохматую голову.
Меняют краски города.
Нагретый камень жадно дышит.
Но уши окон нас не слышат
им невдомек флейтиста свист.
Вбирая солнечный оттенок
в портмоне резной листвы —
три капли грусти, восемь смеха
над обречённостью травы.
Цыплячий лист – предвестник зим.
Его полёт – непостижимость
и медленная повторимость.
Их лейтмотив – осенний дым.
Я – этот свист, я – этот дым.
Мне дарят свет серебряные флейты,
а воздух – праздничные ленты.
И я от них неотделим.
Меняют краски города.
Нагретый камень остывает.
И воздух медленно качает,
как шторы край от сквозняка.
Красный шар разорвал
и высунулся.
– Это что? – спросил
и спрятался.
Чайник горлом хрипел перерезанным.
Чашка акала в ложку чайную.
Стол просил:
– Почешите мне спину.
Омочалил, протёр, опечалился.
Стул ходил овцою постриженной
и словами блеЯл непечатными.
Лист кровЕльный – в машинку печатную.
Простучал, как последний дождь,
и распался на мягкие знаки
градом битых шагреневых кож.
И штанина запуталась в ножнах.
Белой саблей лодыжка сверкнула.
Перетёк из красного в розовый
пухлой пеной из твёрдого мыла.
Пониманья хотите? Верности?
Я уже весь – сплошное внимание.
Моя нежность к стопам вашим льётся,
как вода из разбитого крана.
Пуст сантимент, как медный грош.
(Я никогда не видывал сантима.)
На девять сантиметров (мимо!) —
крыло ножа презрительнейших губ
обшивку воздуха у горла продерёт.
В тумане бродит одуревший самолёт.
Ревёт быком, неподоённым стадом.
И кто, когда и где поймёт,
чего нам надо?
Карманный сейф закрыт на пересмену.
Рука в перчатке, но распахнуто пальто.
Потухший «Беломор»
(о, русский Бельмондо!)
и красный шарф удавом спит на шее.
Ещё два шага – и раскрытый люк.
Покорная толпа из пассажиров.
А рядом с бровью —
света перерезанная жила.
Сноп снега по наклонной бьёт.
Ребристая холодная ступень.
Их много, но считается до двух.
Мотив пытаюсь вспомнить,
но не позволяет слух.
Простейший пальцев журавлиный сгиб.
В салоне в сгибы кресла влип.
И лик висит на фоне синих точек.
Пусть скажет кто-нибудь, чего ты хочешь,
и я покину кресла сгиб…
Но алюминия замок
смыкает гладкие запястья,
куда-то спрятав свои пальцы
и сухо щёлкнув, как курок.
Ещё не осень. Кончилась не-осень.
Нетерпеливая зима открыла свой сундук.
А самолёт свой завершает круг,
крыло закинув в медленном батмане.
А может, вспомним заповеди сами?
Иль будем ждать, когда придёт Христос?
Дюралевым крестом садится самолёт
(а может, огурцом, набитым семенами).
………………………………………….
Читать дальше







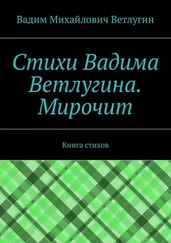

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)


