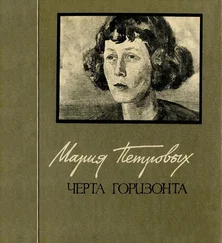А вот курган. Отсюда шведы
ушли впервые без победы.
Здесь ты впервые проиграл,
Карл, Карл!
Ты слышишь в имени своем
зловещий крик
ворон полтавских,
и причитанья вдов солдатских,
и огрызающийся гром
артиллерийской канонады,
и грубым каменным ядром
ручья придавленное горло,
и грозное удушье горна?
Ты сам пришел в поля России,
чтоб имя гордое твое
вороны старые носили,
садясь на мокрое жнивье.
Ты, юный, сам не понимал,
зачем среди чужих просторов
так безоглядно растерял
своих железных волонтеров.
Брожу в долине
с детства милой.
Дышу свободой и весной.
Есть в стороне моей лесной
пришельцев братские могилы.
Многострадальный и радушный,
мой незлопамятный народ,
к могилам этим равнодушный,
своей надеждою живет.
Дозорная ветка (Вступление в поэму)
Как только я на холм взобрался,
сад в мои легкие ворвался!
И я, как пьяный, зашатался
и как счастливый засмеялся.
Потом в долину я спустился,
и оглушил меня простор!
и с гулом в кровь мою вломился
израненный подсочный бор.
О чем леса мои шумели?
О чем ночные птицы пели?
Я ничего не понимал!
Я шел весеннею долиной,
бежал к реке своей любимой
и, задыхаясь, повторял:
О жизнь, непонятая мной,
ты восхитительна до дрожи!
Однако чести не дороже,
однако чести не дороже
и не добрей тебя самой.
Луг
Умер мой веселый друг.
Не согласен! Больно! Пусто…
Но веселый до кощунства
мне приснился летний луг!
И смотрел я не дыша,
и сквозь слезы мне казалось,
что товарища душа
в свежих травах раскрывалась.
Остро вспыхнула роса,
и у скорби, у печали —
у меня мои глаза
краски луга отобрали:
серебристый белотал,
ветреница золотая,
чина, странница седая,—
я их до рожденья знал!
Вот вербейник у воды
нежно-розово-зеленый.
Вот поникшей череды
сонно-желтые бутоны.
Вот пурпуровый чистец
с черной рябью на тычинках
и вечерница в ложбинках,
а на склонах — аржанец.
Вот дубровка голубая —
боль снимается любая!
Вот нивяник грустно-белый…
Сник сердечник — признак первый,
что чревата даль грозой.
А когда подует ветер,
вздрогнешь… Спросят: «Что с тобой?»
Ты ответишь: «Пахнет клевер!»
И вдохнешь его, уверен,
что не обделен судьбой!
Но, маяча над водой
и блуждая вдоль излучин,
вдруг я понял, что измучен
разнотравной красотой.
Потому, что был один,
о литейка и больница,
и не мог я поделиться
с вами свежестью долин.
И уже в тени обрыва,
от росы еще бела,
приднепровская крапива
мою память обожгла.
О крапива и щавель —
отрочества витамины,
поколенья гулкий хмель,—
там качаются руины…
Пусть циничный человек
замечает в оправданье,
что в его практичный век
ни к чему все эти знанья.
Отступила голодуха,
наступила трын-трава!
Но тревожит голос друга,
голос друга — голос луга,
голос вечного родства…
Вновь запахли травы сладко,
и возникли надо мной:
тополиная стекляница,
ивовая переливница,
бархатица волоокая,
коромысло синекрылое,
траурница и весенница,
и обычная печальница,
и оса, блестянка огненная!
И бежало над Лобчанкою
детство с марлевою сеткою
за сияющей журчалкою
и багряной огнецветною.
И, сверкая, как лудильщик,
знойный полдень шел на луг.
Свайный жук и жук-сверлильщик
ослепляли меня вдруг.
А по воздуху к заливу
молодая цапля шла,
целый день ловила рыбу,
и белел испод крыла.
И звенел, трещал будильник
в сладком хаосе корней —
блеск роняли тинник, ильник
и священный скарабей!
Пусть циничный человек
замечает в оправданье,
что в его практичный век
ни к чему все эти знанья.
Что я цинику отвечу?
Я ему отвечу так:
— Вечен луг, а ты не вечен,
ты ведь циник и пошляк.
Одиночеством унижен,
потому что сердцем пуст,
что ты видишь в зное рыжем?
Ничего — ольховый куст.
Вечен луг, а ты не вечен,
суетой обременен
и всеядностью заверчен,
даже в грусти ты смешон.
Потому что в этой грусти
и в несчастиях твоих
нету мысли, нету сути,
нет бездоний золотых!
— Браво, так ему, приятель,
вклей, вклей, вклей, вклей! —
закричал зеленый дятел,
редкий гость земли моей…
И кукушка куковала —
отзывался в сердце звук —
годы родине считала,
подтверждала: вечен луг!
Читать дальше