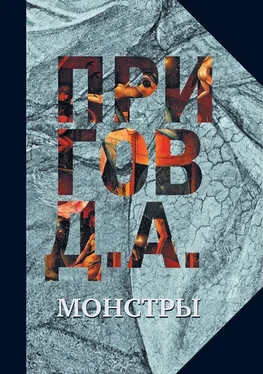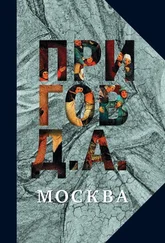Под этим небом и бродит группами и в одиночку недолгими благостными летними деньками понаехавшая из Москвы и Петербурга, тогда еще вполне и полностью Ленинграда, техническая и творческая достаточно милая советская интеллигенция. Многие ее не любят и не любили. Образованщиной называли. А сами-то кто? – та же самая образованщина. Но с гонором да с претензиями. Вот сами себя и обзывайте. Прости Господи, не дай нам судить кого-либо. Даже осуждающих нас.
– Я ничего такого не имею в виду. Просто Додик пропихивает своих везде. Наверное, так и надо. Но мы просто к этому не привыкли. Не приспособлены по натуре своей. Так сказать, из другого теста. Из интеллигентского.
– Вы несправедливы, Елена Кандидовна, – спокойно отвечает спутница, страдающая одышкой. Останавливается, переводит дыхание, приложив к груди крупную руку с блестящими, впрочем, не особо дорогими кольцами почти на всех пальцах. Прищурившись, смотрит на небо. Переводит взгляд на боковые кусты, как сыпью покрытые бесчисленным количеством крупных малиновых ягод. – Сколько малины-то. Наши вчера по три бидона принесли каждый.
– Мы завтра собираемся. А то время-то уже к отъезду.
Молчат. Лия Семеновна осторожно так продолжает:
– Напрасно вы, Елена Кандидовна. – Она говорит эдаким пониженным голосом и почти что в сторону. Маленькая и рыжеватая Елена Кандидовна одета в открытый сарафан, усеянный крупными желтыми китайскими чайными розами. Они смотрятся чрезвычайно эффектно. – Он просто переживает за учеников, – оборачивается к ней трудно дышащая собеседница. Теперь она произносит слова более отчетливо и несколько даже нравоучительно. – А как же иначе? Он ведь от своего творчества силы и время отнимает. Вы же понимаете, что это значит для музыканта. Особенно такого крупного. Он бы мог концертировать. У него из-за границы приглашения. Он же не виноват, что они почти все у него безумно талантливые.
– Не только у него, – несколько обижается Елена Кандидовна.
– Я и не говорю, – голос у Лии Семеновны повышается. – Все-таки наша страна удивительно богата талантами, – заключает она чуть ли не с пафосом.
– Я и говорю, – замечает Елена Кандидовна, – все тянут своих. Просто до неприличия, – несколько возбуждаясь, продолжает Елена Кандидовна. – У Додика они все играют жирным таким еврейским звуком, – и поспешно взглядывает на собеседницу.
– Каким еврейским? – не поняла та. Или сделала вид, что не поняла.
– Я не имею в виду ничего такого. Просто одинаковый жирный звук. А Сашенька мой играет прозрачно. Фразировка чистая. Все темпы осмысленные. А Додик ненавидит нашего Димыча. Вот они и тормозят Сашеньку. Это же так понятно.
– Не знаю, не знаю. Каким это таким жирным звуком играет мой Олег? – действительно не понимает или опять делает вид, что не понимает, Лия Семеновна. – Или Наташенька Липман?
– Вы меня знаете. Я их сама люблю. Я про этих: – Голос ее прерывается и вслед исполняется высокомерием и презрительностью.
Ясно, что разговор не задался, забравшись слишком уж в опасные глубины близких сердцу проблем, событий и имен. К счастью, после недолгого напряженного молчания опять выныривает на милую и не отягченную амбициями поверхность.
– Помните, – начинает первой Елена Кандидовна, – тут как раз ваш Олежка с моим Сашенькой бегали, – глаза ее собеседницы увлажнились. – Еще неубранные стволы валялись.
Да. Да. Они вспоминали. Вспомнили. И было что вспомнить. Они регулярно ездили в эти места уже много лет подряд. Каждое лето. Здесь их сынишки-вундеркинды, соученики по московской Центральной музыкальной школе, побросав свои скрипочки, бегали как тощие мышата между стволов, прячась за кусты, не отзываясь на оклики еще молодых и привлекательных мамаш, приводя тех в моментальный, но недлительный ужас.
– Сашок! Сашок! – высоко и поставленно звучал голос профессиональной хористки и хормейстера Елены Кандидовны.
– Олежек! Олежек! – с присвистом астматический голос Лии Семеновны, виолончелистки и преподавательницы по классу ансамбля Московской консерватории, супруги всемирно известного пианиста, лауреата всех, какие только были тогда возможны, званий, премий и наград.
Дети выскакивали из-за соседних кустов и под облегченное и ласковое попрекание мамаш с криками мчались дальше вдоль по просеке. Вспрыгивали на поваленные деревья. Либо, истончаясь в своих тельцах (и без того тощеньких) до вида полнейшей, почти нацистско-лагерной измученности, до размера ивовой лозы, легко проскальзывали, проползали под темными сыроватыми огромными устрашающими стволами. Мамаши успевали только ахнуть, как они уже показывались по другую сторону гигантской преграды и под ласковое покачивание обеих родительских голов неслись дальше, пока окончательно не упирались в озеро.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу