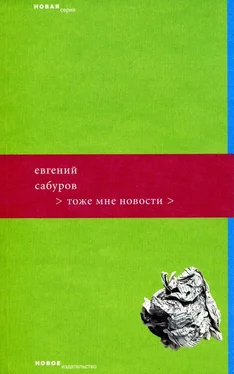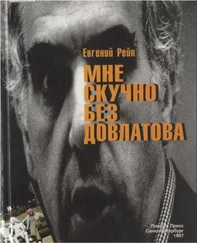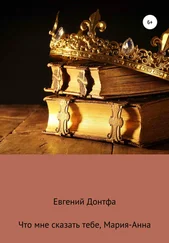«Ерунда, я дик и страшен…»
Ерунда, я дик и страшен.
Сокол мой меж дивных башен
опускается кружась.
Птах по сути бесполезный,
ринув со страшенной бездны,
с белочкой вступает в связь.
Ах, не так уж здорова
эта связь, и ты права,
что пищишь и стонешь белочка.
Сокол скушает невкусную.
Голоден. Но смотрит мужественно
в меру мерзостен и мелочен.
«Я не запомнил ничего, мой друг…»
Я не запомнил ничего, мой друг,
когда на пруд пришел однажды летом
фонарщиком, стекольщиком, поэтом,
с врагами кроток, а с друзьями груб.
Я не запомнил ничего.
А что там было,
хоть ты скажи, злодей и соучастник.
Над вымыслами плакало светило
то ли потворствуя, то ли лучась.
Я не запомнил ничего.
В третьей части мы должны вернуться
к тому, кто нас любил и постоянно опекал,
тем более, что на блюдце
из чашки стекает человеческий капитал.
Я не запомнил ничего.
Тем более, что теория человеческого капитала
по мнению многих устарела.
И что тут говорить про мое тело!
Ничего. Не запомнил ничего.
«Не убивай меня, мой странный…»
Не убивай меня, мой странный
спутник,
мой мерзостный, мой скалящийся
отрок!
Уходит в даль Лотреамон и пусть их,
сих порождений тьмы, сих сучих
потрохов.
Я романтизмом не болел,
такого не было в помине —
может быть в детстве Шиллера чуть-чуть? —
но благостную розовую речь в пустыне
вел, плел и пел.
Быть сладким – это жуть.
Я вел неправильный, но теплый
образ жизни,
и малая любовь рождала великие
стихи.
Не убивай меня, меня легко исчислить,
дай выйти из воды сухим.
«Разгневанный донельзя человек…»
Разгневанный донельзя человек
идет по городу. Врываясь в переулки,
он останавливает страстную прогулку:
прилична мерность, неприличен бег.
Основами июльских вязких строк
являются любовь и честолюбие.
От мерзостного словоблудия
он с самого начала был далек.
Теперь его терзает тишина.
Он рад бы броситься не в музыку
как в омут,
а в те несчастия, которыми поломан
был ранее. И просит он вина,
чтобы отвлечься или же наоборот
острее слезы ощутить.
Бегущий в саване зашит,
влюбленный в ревности живет.
«Видна не сразу степень одичанья…»
Видна не сразу степень одичанья
в больном. Он говорит как все, волнуясь.
Ходит. Садится. Разве, что случайно,
мы замечаем, злится, там где
здоровые целуются
или по крайней мере безразличны,
а вдруг
он кинется рыдая изливаться
и остановится, не опуская рук
и что-то бормоча о братстве
людей. А что ему сдались
те люди? Докучлив и нелеп
он говорит, что жизнь есть жизнь,
и соглашается в сторонке есть свой
хлеб.
Очаровательная ночь!
Все только что цвело и пело
и вдруг во тьме оледенело,
как будто стало жить невмочь.
Очаровательная ночь!
Послушный своему капризу
не обращайся ни к кому,
не приглашай пожить в дому
ни лебедя, ни Элоизу
послушный своему капризу.
Сойди с дороги и на север
взглянувши, больше не стремись,
не прыгай вверх, не падай вниз.
Пусть жар манит и смуту сеет,
сойди с дороги – и на север.
Мой странный друг не видит смысл
в таких сентенциях унылых.
Немного добрый, очень милый
довольно сладок, в меру кисл
мой странный друг не видит смысл.
«Моя любовь – назойливая муха…»
Моя любовь – назойливая муха,
изведшая сама себя, всё тыкаясь
в стекло,
всё убиваясь, но сама не зная,
что к этакой печали привело.
Остановиться не хватает духа
и остается жить влюбленным оставаясь.
Моя любовь то ревностью продлится,
то унесет меня в домашние фантазии,
то на меня же будет пристально
глядеть,
но в тишине весь серый день излазает,
изгладится, махнет через границу,
несуществующий взалкавши клад.
Моя любовь – отказ от ожиданья.
Она не выдумана, принц, она
чужда мне.
Все радости её сродни рыданью,
вся нежность воцарилась в камне.
«Ронсар наивен. Вы искушены…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу