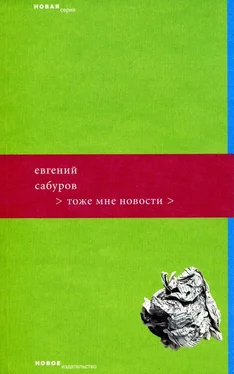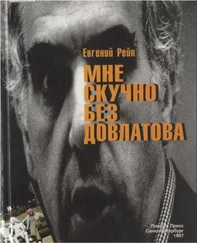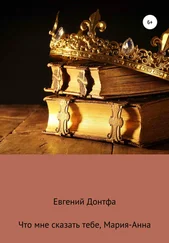О, соловей-разбойник, соловей!
Не наш, не наш тотем, не русский.
Произойдет ли завтра смена вех
и сиська выскочит из блузки
не ясно, все не ясно, но на то
она и есть весна. Луна в ночи
дебелой девкой, налитой,
не зная, что сказать, молчит.
«Боже, что она подумала обо мне?…»
Боже, что она подумала обо мне?
Как могла она такое подумать обо мне?
Я такой чистый, такой невинный, такой
никакой.
Как могла она подумать не вовнутрь, а
вовне,
когда стал я перед ней совсем нагой.
Я хочу доказать-доказать.
Ну, если не доказать, то сказать ей,
что в нашей поэзии, ебена мать,
мы так значительно веселей и важней,
чем каждый шаг, который она совершит,
каждый шаг,
чем каждый миг, который она проживет,
каждый миг,
что я к воде подтянул лежак,
лег на него и сник.
Не думал, не думал, что это так,
что это все обернется так,
что, как говорится, это все так обернется,
потому что я полный мудак
и это осознается.
Я хочу доказать-доказать,
что ни лестница вверх, ни спуск в подвал,
ни в конце концов та же ебена мать,
ну, никто нас не колыхал
больше, чем сегодня ты меня,
но предполагаю прорваться
в тот мир, что прекрасней день ото дня
и в сущности разнообразней.
В очаровательном доме
скромном, маленьком, но таком удобном
двое пожилых людей сидели
и говорили, кто о чем помнил,
глядя как пальцы пустили ели,
кивая друг другу готовно
в очаровательном доме, выдвинувшись во двор
два пожилых человека,
столько прожившие вместе,
благословляли белый забор
и близлежащую реку
и не ожидали никаких известий.
Они хотели, чтобы после тюльпанов
у них зацвели пионы.
Они были немного пьяными,
но очень сильно влюбленными.
В очаровательном доме мелькала мысль,
что жизнь ушла,
но она отметалась с порога,
хотя в этом доме жила
достойнейшая тревога.
«Девочка не из самых умных…»
Девочка не из самых умных,
но какая-никакая.
Моя девочка. Моя слабость, моя
сладость.
Вокруг тебя целый мир влюбленных
плещущихся, квакая, мигая.
Какой-никакой – твой драгоценный
кладезь.
Нет. Мой драгоценный кладезь,
колодец, из которого пью я, —
девочка не из самых умных, не из
самых красивых,
гуляющая на стороне, но все равно
моя семья,
на моих руках носимая, —
и обреченно поднял,
сказав все это,
ради чего жил и не понял —
и не помнил —
лето.
И проиграл-проиграл
то, чего так и не принял,
то, что ждал и не взял —
имя дождя в пустыне.
«На маленьком мальчике маленький…»
На маленьком мальчике маленький
рог,
на маленькой девочке – голубь,
и маленький мальчик привольно
залег
на маленькой девочке голой.
Мы стлались как ряска на
ближнем пруду.
Очистили пруд. Мы устали.
Уселись, запели в ту же дуду
из нержавеющей стали.
Немецкой поэзии странная связь
с моей незначительной жизнью
не то, чтобы зов, и не то, чтобы казнь.
Я ею и призван и признан.
«Обязанность повиновения предела не имеет. Ей…»
Обязанность повиновения предела не имеет. Ей
положено
застопориться страстью, не из разума.
Обязанность повиновенья
тревожно
трепещет заданными трассами.
Не умозрение рождает совесть. Грустно
глядя на ирисы и слушая лягушек
ты подметаешь дом свой. Выше мусор! Пусто.
Теперь прилично дом обрушить.
Натура вечно движется скачками.
Ее душе прерывистой и влажной
заказана удача. Вечерами
она томится и во всем и в каждом.
И только женщины сухие и нагие сосредо —
тачиваются в повиновении,
чтобы поддерживать разумную гармонию,
утаптывая мир, и ждать мгновения,
когда зачатием взорвется антиномия.
Мы влагой обменяемся друг с другом. Нам
положено
хватать из воздуха, выдергивать стрелу.
Не умирать. И в мире обезвоженном
хоть пригоршню воды подать к столу.
Вспоминая закат
за забором, за белым забором,
три минуты подряд
я светился не взглядом, а взором.
Архаично-торжественен
я восседал над прудом.
Трясогузка так женственно
двигала длинным хвостом,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу