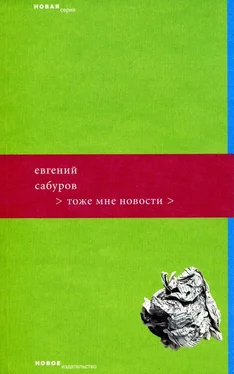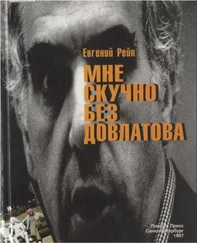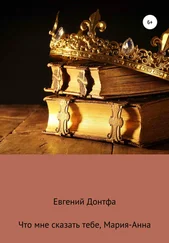что я вдосталь настроил
замков на ближних холмах,
и за белым забором
и там, где расцвел мак.
Ни одна береза
не махала верхушкой,
не намечались грозы,
а намечался ужин,
и в тишине плелась
очень активно
нить, скручиваясь в связь
с миром. Фиктивную.
Я, впрочем, как и все,
мне так кажется,
вовсе не помет, не посев.
Мне есть в чем каяться.
Не лев, не собака, не остролист,
не тот же самый мак,
и никакой дарвинист
не заставит меня думать не так.
Вспоминая закат
за белым-белым забором,
многодумно вперял взгляд
в леса и просторы.
Я нюхаю твое белье
через две тыщи километров
и лисье личико твое,
и мокрое отверстие.
Я нюхаю верховья рек,
хрип ясных сосен,
непрерываемый ночлег,
закрашенную проседь.
Сижу и слышу в тишине
воркуют годы,
мальчишка пляшет на волне,
снуют погоды.
Кто станет нем, кто станет слеп,
каким кто станет?
Через столетие нелеп
мильон терзаний.
А пепел в воздухе застыл,
а запах светел,
а ветер выл, а ветер ныл
два-три столетья.
«Несомый с воплями наружу…»
Несомый с воплями наружу
взыграл возжаждавши чудачеств.
– Чей ум ночами я нарушу,
когда присяду посудачить, —
сказал покойный, осерчав
на всех подручных капитанов,
ударив по восьми плечам
своими неземными ранами.
Талантлив ныне он иным
скорей, чем был талантлив здесь.
Он даже бабой не пленим
хоть по кустам ее развесь.
Переваливши через край
и свесив патлы на природу,
он думал: «Сколько ни играй,
людская мерзкая порода,
а выплеснешься вот наружу
как я от всех своих чудачеств!»
И подвывая с тихим ужасом
бежали капитаны плача.
Лепестки пиона
осыпаются на траву.
В этом мире зеленом,
красном, белом
и душой, и телом
живу.
Ах, как было бы просто,
если бы было так.
Ивы среднего роста,
ирис, люпин, мак.
Отгородиться забором
и наблюдать в дождь
за всяким зеленым вздором
набирающим мощь.
Пруд переполнен по камни.
Град пока еще мелкий
не посечет пока мне
распускающиеся безделки.
И чем еще лечиться,
как не одиночеством в травах?
Водка, сарделька, горчица
и небесная слава.
«Не обломать бы сладкий стебель…»
Не обломать бы сладкий стебель —
нагое, гнущееся тело,
не схавать бы венозных сплетен
синих на белом,
целуя сотни углублений
захваченной теплом страны.
– Я мир поставлю на колени!
– Я обернусь зверьем лесным!
Но ручки ивы так покорны
и тянутся сто раз на дню.
В прудах игрушечных линкоров
устраиваешь беготню.
Нельзя ли
держаться от меня подальше, солнце?
Нельзя ли
слоняться где-нибудь поодаль,
пережидать пока ребенок не проснется?
Но вот мы ночь перелистали.
Я встал и подал
сигнал: ну, выходи, же!
Вот женщина. Вот тело женщины. И
нужен свет.
Мне нужен свет поближе.
Жги, солнце, жги!
Мне нужно видеть миллионы лет
и ощущать их мягкие шаги.
Как вяло, как нелогично женщина
вертелась.
Схватившись за голову: – кем мы стали? —
я думал. Лучи прокатывались по полу,
по стенам, по потолку.
Стлалось, искрилось тело.
Я говорил: – Ей-Богу, я не лгу,
нельзя ли погодить, нельзя ли?
«Похоже, не готов ещё Господь к той…»
Похоже, не готов ещё Господь к той
встрече, которая, как знаем, неминуема.
Не выплакать, не вымолить отмены
свиданья, но и торопить не стоит.
Пускай ещё попробует, ну, если же
не полюбить, то
быть снисходительней.
Кто слаб на передок?
Смятенья полн убийца тосковал
по дому.
Мы думали полиция придет,
мы думали, что черные рабы
на тетку барина по страсти настучали.
Нет. Нет. Никто ничто и никому не
вякнул.
Быть снисходительней! Как это тяжело.
Нет. Нет Не тяжело. Не выплакать.
И что? Не надо плакать? К тому,
кто слаб на передок
спеши, Господь, на милое свиданье,
попробуй, если не любить,
то хоть позлобствовать на встрече
снисходительней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу