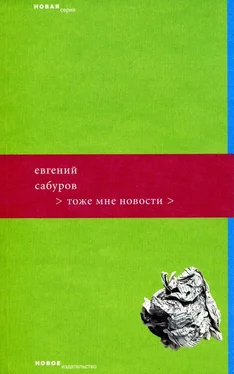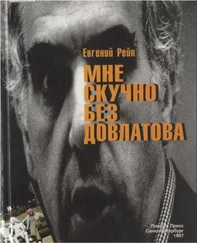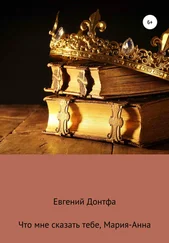Я улыбаюсь шантажу,
поджавши хвост, поджавши губы,
и на прощание скажу:
– О! Как расчетливо ты любишь!
«Подачки-поцелуи – не привык…»
Подачки-поцелуи – не привык.
Есть много всякого всего.
Уходишь – уходи, рискую, рот порванный
сочится.
Res
publica —
ведь вовсе не о том.
Резцы терцин, а между ними натянутые
провода стихов, хиханьки проводов,
вода подвалов, сплошная вонь от
дохлых семихвостых мышекрыс.
Шантаж привычен. Жизнь
вообще-то выше крыши. Вся в печенках
сидит, но важен тон, которым просят
плату.
«Всё хиханьки, всё смехуечки, все…»
Всё хиханьки, всё смехуечки, все
такое ушлое, зигзажистое, хроменькое.
Мы стянуты в кольцо. Дрожит яйцо
на холоде, на самой кромке
весны. Мой угольщик опасно близко
болтается у мола на волне.
Припрячь отжатую пипиську,
ты отработался вполне
за прошлый рейс. Спеши до дому!
Мы опростали трюмы. Ждем.
Мадам согласна дать другому
возможность побывать скотом.
«Кольцо пропорото зигзагом, и зигзаг…»
Кольцо пропорото зигзагом, и зигзаг
стянут в кольцо весенним холодом.
Дрожа, он стягивется и сморщивается,
отжатый, отработанный. Весь
в прошлом!
Возможность быть не нам принадлежит.
Простая близость нарушена прощаньем.
И —
сопляки,
и —
бабы по бокам стоят, извлекая крашенки
из узелков, жалостно смотрят.
Красная глина, яйца, хроменький
блаженный поджимает губы, как
мадам проплывающая мимо
болтающимися волнами платья.
«Мой райский лик так мал и сморщен…»
Мой райский лик так мал и сморщен,
что и не рассмотреть,
а спелый крик полощет площадь,
что миг послушать – и на смерть.
Еще лак римский майским мелом
измазан – это, скажешь, пыль.
Припудри щечки неумело
и губки в сердце оттопырь.
Ропот. Щечки подыхают.
Мерли: спелый крик, рай и Рим, миг и май,
белый мел.
Май и Рим, Рим и рай
не рассмотреть.
Пурга припудрит кудри
перед маем.
У-у, благодать!
У-у, спелая какая!
А за окном – ни дать, ни взять —
почти что три десятых рая.
Снег мал и сморщен, он пойдет-пойдет
и пройдет, а на площадь ляжет пыль.
«Стебель чуть коричневатый…»
Стебель чуть коричневатый
на пустой, густой лазури —
южный папоротник смятый
во саду ли, во сумбуре.
Я лежу в лощинке, глядя
на небо. Всё ворочаюсь.
С этим садом-виноградом
я прощаюсь прочно.
Мне не надо белых бедер,
облаков холодных.
Пустотой, сияньем, ведром
я прихвачен плотно.
Вот моя отрада —
ничего не надо,
но темно в саду
к моему стыду.
«Что содержится в намеках на усталый…»
Что содержится в намеках на усталый
пепел жизни
на листву, что отжелтела,
на твое утраченное тело,
на хаос звуков?
Что содержится в намеках на прощанье?
Не прощенье ль?
На прощанье шаль с каймою ты стяни
потщательней.
Каждодневная тщета и парад побед.
Не понимая устрашающего топота совестливых
вздохов и охов, я ахаю и ухаю вместе
с совами звуков.
На небе голубом прорезался звоночек
запоздалой весны и сразу оттаяли
так долго замороженные наплеватель —
ские слова и чувства.
Неужели можно без намеков аукаться с
прощаньем?
И выдуманная тревога больше не волнует
сердце?
Пуст город. В глубине его открылось
столько всякого.
Понурые толпы «в костюмах, сметанных
со вкусом дурного сна», – сказал
Рембо – бредут от кладбища и
демонстрируют благополучье
налаженной обильно смазанной жизни.
Сорокалетний поэт с дочерью в окно такси
глядят на них и едут на вокзал
встречать его мать. Ей бабушку.
А по пути Москва раскинула свои дома.
В апрельском солнце она спокойна
и пустынна по вокресному.
Где ж здесь поэзия?
А надо ли поэзии, когда мы громоздимся
пятнами любви на освещенных солнцем
стенах города, когда
мы гривами волос вздымаемся к исходу
неба в солнце, когда
на нас печати серой седины и оспины и
пересохшие русла морщин разоблачи —
тельно рассказывают всем прохожим
о милости в нас прожитых годов?
Когда ты так украшен пляской лет,
кто станет спорить: в мире Рим творящем
одно лишь прошлое способно сплыть на нет
и стать по настоящему незряшным,
и можно ли подолгу быть незрячим,
когда в свой срок весна, блюдя завет,
но все-таки подобная удаче
на города обрушивает свет?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу