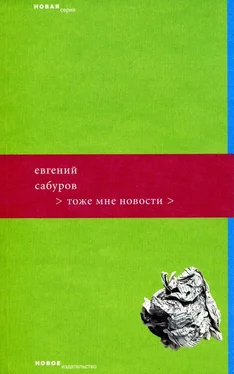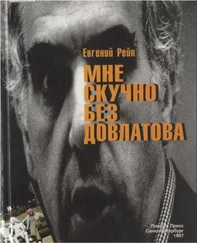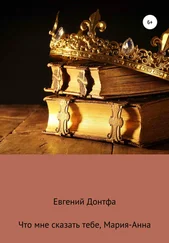«Без видимых усилий я влюбился…»
Без видимых усилий я влюбился.
По трассе странницы-машины продвигались,
земля и небо в снегопаде бились,
водители водителей пугались.
И в этом обложном пространстве,
и в этом воздухе створоженном
я ехал в праздничном убранстве
приподнятый, прямой, встревоженный.
Нельзя сказать, что не было за мной
того, что называют «грузом лет»,
нельзя сказать, что медом и вином
я представлял заснеженный рассвет,
но мне открылась пустота любви,
все пазухи, карманы страсти,
вся незаполненность и неба и земли,
вместилище надежды и участья.
Не то, чтоб верил я во что-нибудь такое,
чтоб что-то новое я принял или понял,
но даже за тревогу стал спокоен
и даже снег я обнял.
Живейшим утренником в пробках протолкавшись,
подобно муравьям в Москву сползаясь,
машины чавкали дорожной кашей
и друг на друга огрызались.
«В последний раз ты выглядела вяло…»
В последний раз ты выглядела вяло,
презрительно, твои слова
ложились комьями на одеяло,
покачивалась голова.
Кутаясь в кружево, ты допивала кофе,
гасила сигарету и молчала.
По телевизору на выручку пехоте
двигались танки вал за валом.
Я обомлел. Я думал: четверть века
с тех пор как ты вот так сидела.
Не человек – подобье человека,
не тело, а подобье тела
сосуществуют с жизнью ежедневной,
в которой я, которая во мне.
В последний раз ты выглядела нервной,
возможно, по моей вине.
Живя, не претендуя на бессмертье,
хотя уже значительнейший срок,
во временах прострелено отверстие —
путь не далек. Хоть шерсти клок.
«Кто ушел сквозь эти дали…»
Кто ушел сквозь эти дали
в небывалые высоты
и кому же наплевали
в душу наши идиоты,
наши теплые друзья,
забывая, что болезненно
уходить сквозь эти дали —
мы же тоже не железные —
я и ты и ты да я.
Сидим посасывая пиво
весной у мутного окошка.
Ах! Скоро в воздухе счастливом
забьются деловито мошки.
Ах! Скоро из земли трава
пойдет зеленая по-новому.
Гуляют в голове слова
кандальником раскованным.
Гуляя так, гуляя сяк,
идя на поселенье,
бутылки зашвырнув в овраг,
плеща из луж весенних
на брюки мох, на куртку грязь,
себе на морду брызги,
он руки тяжкие растряс,
затекшие от жизни.
А мы сидели у окна,
следили за кандальником.
К нам за город пошла весна
дорогой дальнею.
Уже урчат в пруду лягушки,
но не зазеленели ивы,
уже в песочнице игрушки,
но мир не выглядит счастливым.
Избавившись от наважденья,
сижу в безделии приятном
и соскребаю с вожделеньем
налипшие на скатерть пятна.
Бездумно подстригать лапчатник,
освобождая от семян,
разглядывать в дали нечеткой
пяток соседушек-полян,
читать о временах ушедших,
почетно попивая чай,
собрать фантазии и сжечь их,
а новых больше не встречать,
не злиться ни на чьем пороге,
стуча в захлопнутую дверь,
не рыскать ночью по дороге,
как будто ты бездомный зверь,
не упиваться правотою
и сладкую слезу обид
на одиночество простое
сменить. И так на все забить,
как это Родине пристало
в ее сегодняшнем убранстве
из газа, нефти и металла
на обезлюдевшем пространстве.
– Откуда родом ты, свинья?
– Я из России. – Где же это?
– Там, где народ одна семья
и очень быстротечно лето,
там, где урчат в пруду лягушки,
вот-вот зазеленеют ивы,
а внучка вытащит игрушки,
но дед не выглядит счастливым.
«Уже луна над самым ближним лесом…»
Уже луна над самым ближним лесом
приятно оживляет синь небес,
уже лягушки с явным интересом
толпою покидают тот же лес
стремясь к прудам, где скоро станут
отцами и мамашами икры
и хрюканьем своим доставят
ушам и мыслям радости игры.
Весна вовсю и даже, что везде, пожалуй,
уже меж птиц возможные контакты
поставлены на обсужденье, и не мало
прольется песен на пустынных трактах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу