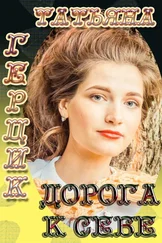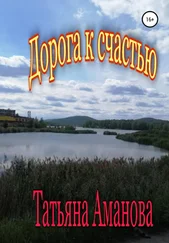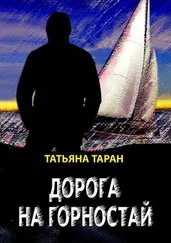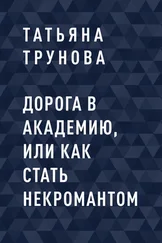И ручейки становятся рекой,
А улица – весенняя Вселенная.
Шагаем мы в колонне заводской,
Страна родная, необыкновенная!
Летит наверх один горячий клич,
Всё вроде бы – так радостно и искренне.
С портрета смотрит Леонид Ильич,
Чуть-чуть похож на мишку олимпийского…
Туч ноябрьских свинцовые спайки
Сжали небо – горбатый гранит.
Снова ангел в истлевшей фуфайке
У высотного дома стоит.
То ли бусины алого пота,
То ли клюква. Зыбучая гать,
Дряблой памяти злое болото
И не думает нас отпускать.
Вот опять окаянную флягу
Наполняет тяжёлым дождём
Город мой, сочинённый ГУЛАГом
И навечно оставшийся в нём.
Прими (и другого не требуй)
Весёлый балласт – бытиё,
Московское громкое небо,
Подземное небо твоё.
Грохочут железные змеи,
И воздуха бьётся стекло.
Тебя этот город сильнее,
Но ты понимаешь его.
Гудят колокольные клёны.
Осенний мигает экран.
Ты – только кусочек планктона,
Влюблённый в чужой океан.
В невесомости осени, в нежном свечении,
в пустоте распахнувшейся невыносимой,
очутившись немножко в другом измерении,
ощущаешь внезапно – какая-то сила
отрывает тебя, и несёт, и качает,
и стоишь ты, как юнга на палубе скользкой,
удержаться пытаешься, не замечая,
как сигналит рябины маяк беспокойный.
Говори же со мной – не стихами, так ветром
расскажи своё сердце, случайный попутчик.
В невесомости осени – ниточка света,
Млечный Путь под ногами всё гуще и гуще…
«Если на сушу выскользнули слова…»
Если на сушу выскользнули слова,
Брось их обратно в быструю реку-речь.
Берег бессонницы долог, вода светла,
Бакены гаснут. Душу не уберечь.
В ракушку-сердце гулко стучит прибой,
Растёт тоска, когда утихает шторм.
Мёртвые рыбы приходят на водопой,
Тычутся в небо распоротым грустным ртом.
Берег бессонницы долог и каменист,
Густо усеян обломками мечт и мачт.
Только слова скользят по течению вниз,
К синему морю, где солнца плавник горяч.
Ветер скатерти белые стелет
На столе бесконечного льда.
Распускается роза метелей
В золотых заполярных садах.
Лепестков её яростный сполох
Возле звёздной сияет тропы.
Безболезненным белым уколом
Рассекают пространство шипы.
Ах, как холод пронзительно греет –
Нестерпимого света струя.
Здравствуй, родина! Гиперборея –
Необъятная тайна моя!
«Хочется холода, чистого ясного холода,…»
Хочется холода, чистого ясного холода,
неба ночного, хрустального, родникового,
чтоб завивались, кудрявились инями-янями
пряжа созвездий, полярное пламя-сияние.
Хочется – очень – крахмального хрусткого холода,
чтобы луна новогодней сверкала подковою.
От канители вселенской, от пакости плачущей
спрятаться в зиму – большую блестящую ракушку,
скрыться в обители строгого светлого холода.
Счастливы мы, если только несбыточным скованы.
Господи, где Ты?
Над пропастью мира кричащего
северный ветер – глоток ледяного причастия.
«Света не будет, будет покой…»
Света не будет, будет покой.
Холод. Аналгезия.
Знаешь, когда рассталась с тобой,
я полюбила зиму.
Я полюбила молчание звёзд
в неба конверте чёрном
и неразбавленный – ух! – мороз,
перехлестнувший горло,
невыразимую снега суть
и безымянный иней,
да, и ещё – одинокий путь
лыжника по равнине,
дивные лотосы на стекле,
сумерки и позёмку.
Нежность замёрзла моя во мгле
маленьким мамонтёнком.
Но отчего же душа не спит,
хочет во что-то верить?
Бьётся, как белый огромный кит,
Выброшенный на берег.
Всё равно, две тысячи …надцатый или …дцатый
(С каждым годом колёсико всё быстрее).
Громоздятся Кавказским хребтом салаты.
Бутылок вечнозелёная батарея
Приготовилась к залпу. На псевдоветках –
Мишура, накопленная годами.
И по всем каналам – родное ретро,
И так сладко тикает ожидание.
И пускай за окнами затрещала
Пёстрая китайская канонада,
Этот праздник вечно нас возвращает
В СССР, как будто всё так и надо.
Утро подсчитает пустую тару,
Вспомнит о разбитых своих корытах…
А пока – нетленно поёт Ротару
И, как в детстве, жаль мокрого Ипполита.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу