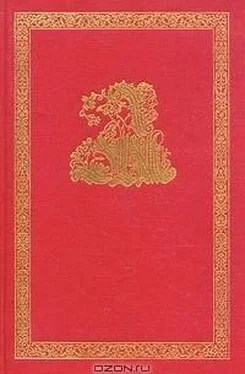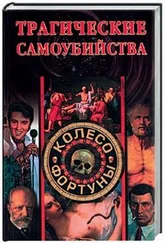Второй источник бед — Ахитофел [87] Ахитофел — советник царя Давида, предавший царя, приняв участие в заговоре Авессалома, сына Давида.
, чьи козни
Отцов и сыновей ведут к взаимной розни,
Се новая чума, еще один злодей,
Се наших внуков страх и даже их детей,
Жестокий кардинал в багряном одеянье,
Таком как жизнь его и все его деянья,
Сей изверг красным стал от крови тех, чей век
Его стараньями до срока меч пресек,
К тому же сластолюб иной запятнан кровью,
Кровосмесительной чудовищной любовью [88] Кардинала Лотарингского подозревали в преступной связи с Анной д'Эсте, женой его брата Франциска Гиза.
,
Поскольку грешным сим и совершен стократ
Бесовский сей разгул, бессовестный разврат.
Была ужасною кончина кардинала,
И в тот же миг вся рать бесовская восстала,
Стал черным небосвод, трясет земную твердь,
И разом трех стихий взревела коловерть,
И красный дух того, кто возмущал при жизни
Всю землю, все края, кто так вредил отчизне,
Уносит тысячу ростков, смерчей, ветров,
Перунов кованых, сверканий и костров,
Исход святой души, столь пышный, столь слепящий,
Поверг безбожников глумливых в ужас вящий.
Исторгнув демона, остался блудодей
В плену злых умыслов, в сетях былых страстей
И черных дел своих и, стоя перед бездной,
Не мог он позабыть наперсницы любезной,
Подругу Бог сберег, когда скончался друг [89] Считалось, что кардинал Лотарингский был любовником Екатерины Медичи.
,
Распался их совет, нет края наших мук.
Принц богоизбранный [90] Имеется в виду Генрих Наваррский.
, ты видел в доме тещи
Цикуту и дурман, тебе, чего уж проще,
Свидетельствовать нам, что королева-мать
Средь ночи с криками покинула кровать,
Когда усопший к ней пришел, дабы проститься
Перед уходом в ад. Ты видел: дьяволица
Прикрыла в горести ладонями свой лик,
И волосы твои от страха встали вмиг.
Ничтожность сих мозгов однако привлекала
Как свет от факела, как пламя от запала,
Способное спалить, сравнять с землею храм
И замок истолочь с золою пополам;
И стены школ крушит толпы порыв безглавый,
Оставив лишь костяк от нашей древней славы
(Нам о величии гигантов давних лет
Дает понятие теперь один скелет).
Стараньем сих двоих растоптаны законы,
И озверелый сброд, к делам бесчинным склонный,
Багрил ножи в крови бессильных стариков,
Младенцев убивал, бесчестя мирный кров,
Не признавала смерть ни возраста, ни пола.
Стараньем сих двоих истошно сталь колола,
И вот со дня резни пятнадцать лет идет
На нивах Франции покос и обмолот.
Поскольку бешенство с горячкой охватило
Ряд сопредельных стран, где тьма не наступила,
Макиавеллиевой выучки умы
У нас посеяли раздор страшней чумы,
И знать французская, на их поддавшись козни,
Вступила на стезю междоусобной розни,
С отвагой у дворян и ярость возросла,
И стал высокий род подобьем ремесла.
Привычно меж собой вступать в бои дворянам,
Властитель их долги оплатит чистоганом.
Тут всякий вертопрах таскает в ножнах меч,
Дабы кромсать других и свой живот пресечь.
Боясь, что в дни без войн дворянство от приплоду
Умножится в числе и, возжелав свободу,
Тиранов сокрушит, и что оно само
При всем невежестве смахнет свое ярмо,
Наш Генрих Валуа как бы хулит дуэли,
Но тягу к ним в сердцах готов разжечь на деле [91] Король Генрих III поощрял поединки среди придворных. Об этом говорится в мемуарах Брантома.
,
Других он рад клеймить, зато мирволит он
Придворной шатии и не блюдет закон,
Смиряющий в сердцах излишнюю отвагу,
Поставив сзади ад, а пред глазами шпагу.
Пишу, предчувствуя, что скоро новый бой,
Где сердце и душа схлестнутся меж собой,
Я, Богом призванный судить себя сверх меры,
Лишенный совести, раскаянья и веры,
Не вправе восславлять, глумясь, как лицедей,
Ни желчи, ни обид, ни горечи своей.
Читатель, я веду рассказ не славы ради,
Описывать позор приходится в досаде,
И сердце чувствует уколы в глубине,
Оно противится и судит всё во мне:
Издержки многие оно мне ставит в строку,
Попранье совести, прощение пороку.
Великие мужи, герои давних дней,
Когда мог кесарем однажды стать плебей,
Его вассалом — царь, царем — судья лукавый,
Наш край — провинцией, а мир — одной державой,
Сената власть и честь блюли, и в свой черед
Признали всадников, трибунов и народ,
Почтили черный люд высокою ступенью,
Когда отбил рабов, идущих в наступленье.
Сиих полулюдей простолюдин и знать,
Как лошадей, могли купить или продать,
Средь них, отверженных, бывали встарь к тому же
Свои сословия, но всех считались хуже
Такие, кто, как скот, влекомый на убой,
Жизнь отдавал свою пред яростной толпой.
В дни пышных праздников и знатных погребений
Такие шли на смерть и гибли на арене,
Не изменясь в лице, тунику сбросив с плеч,
Без дрожи всякий раз встречали грудью меч.
Как те, кто в наши дни размахивает шпагой,
Они таили страх за показной отвагой,
Не корчась, не вопя, встречали смертный час
И даже падали, как будто напоказ,
К жестоким зрителям ничтожной жизни ради
Сраженный не взывал ни разу о пощаде.
Так сей презренный люд в прожорливую пасть
Ввергался что ни день, чтоб тысячами пасть.
Читать дальше