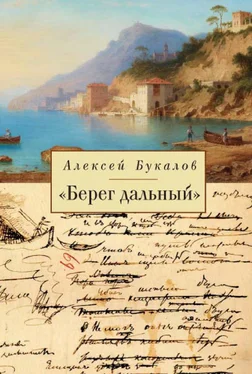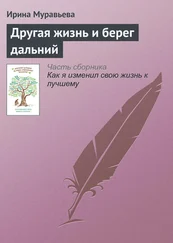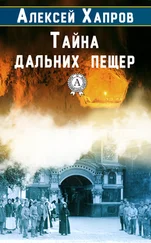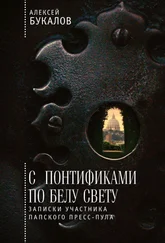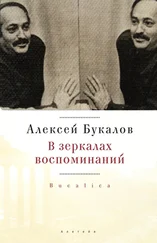«Божиею мнлостию мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский и проч., и проч., и проч., высоко почтенному королю и владельцу славного острова Мадагаскарского наше поздравление.
Понеже мы заблагорассудили для некоторых дел отправить к Вам нашего вице-адмирала Вильстера с несколькими офицерами: того ради Вас просим, дабы оных склонно к себе допустить, свободное пребывание дать, и в том, что они именем нашим Вам предлагать будут полную и совершенную веру дать, и с таким склонным ответом их к нам паки отпустить ж изволили, какого мы от Вас уповаем, и пребываем Вам приятель.
Дано в С.-Петербурге. Ноября 9, 1723 года».
Голиков высказал предположение, что, называя «королем мадагаскарским» пиратского предводителя, «великий наш государь начальника сих удальцов хотел польстить таковым титлом».
О каком «добродушном примечании» Голикова пишет Пушкин? На странице 434 восьмого тома «Деяний» (именно на нее ссылается Пушкин) Голиков заметил: «…Я уже объявил выше, что не могу дать о сем изъяснения по неведению истории сей и тайн кабинета. Мне только известно, что остров Мадагаскар лежит в восточной стране Африканского моря…» И далее (стр. 435): «К какому же Мадагаскарского острова королю писал монарх, я паки повторяю, не знаю; да есть ли бы и был на нем таковой король, то весьма не вероятно, чтоб африканский король, владетель обильного столь острова, восхотел искать в европейском каком государе покровителя себе».
Голиковский свод был лишь одним из источников знакомства Пушкина с событиями Петровской эпохи, в том числе и с эпизодом «мадагаскарской» экспедиции. 17 февраля 1832 года Пушкин получает пакет из царского дворца. «Шеф жандармов, командующий императорскою главною квартирою, генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов в Российской империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок Его Императорским величеством» (XV, 12).
Это было первое «Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.», подготовленное М.М. Сперанским. В него составитель включил и вышеприведенное письмо Петра I к «королю мадагаскарскому» [488].
Пушкин, как известно, воспользовался поводом, чтобы расширить себе доступ к источникам петровского времени. 24 февраля он отвечал Бенкендорфу: «…Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.
Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь побеспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого» (XV, 14). 29 февраля дозволение было получено (XV, 15).
Кстати, именно у Вольтера (и задолго до знакомства с его библиотекой в Эрмитаже, а именно еще в 1829 году, при работе над «Полтавой») Пушкин мог прочитать рассказ о мадагаскарских флибустьерах. В книге «История Карла XII, короля шведов» Вольтер писал: «Давно уже пираты разных наций… разбойничали на морях Европы и Америки, всюду беспощадно преследуемые, они удалились на берега острова Мадагаскар. Это были отчаянные люди, известные подвигами, которым не хватало только честности для того, чтобы считаться героическими. Они искали государя, который принял бы их под свое покровительство…» [489]
Петру I по разным причинам не довелось оказать «покровительство мадагаскарскому королю». Однако сама по себе идея была весьма характерна для геополитического мышления Петра, для его «восточных» планов. Африка и Индия, южный и восточный «тылы» Оттоманской империи привлекали внимание царя. В связи с этими планами некоторые исследователи рассматривают и присутствие при петровском дворе предка Пушкина Абрама Ганнибала. «Появление его при дворе Петра I, возможно, связано с более глубокими причинами, чем распространившаяся в Европе начала XVIII века мода на пажей-арапчат: в планах сокрушения Турецкой империи, которые вынашивал Петр I, связи с Абиссинией – христианской страной, расположенной в стратегически важном районе, в тылу неспокойного египетского фланга Турции, – занимали определенное место. Однако затяжная Северная война не дала развиться этим планам», – пишет Ю.М. Лотман [490]. (По отдаленной ассоциации вспомним более поздний исторический анекдот о Екатерине II, рассказанный принцем де Линем, сопровождавшим императрицу во время ее поездки в Крым: «Ее Величество нам рассказала, что ее бранили, зачем позволила она одному из морских капитанов жениться на негритянке. Но, – добавила она, смеясь, – это ведь следствие моих посягательств на Турцию. По моей воле был отпразднован союз одного из представителей русской нации с Черным морем») [491].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу