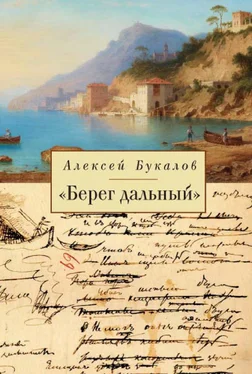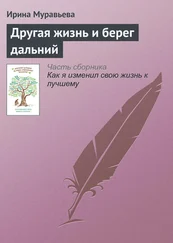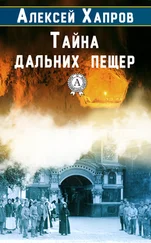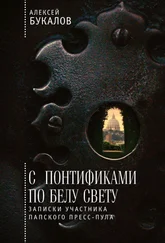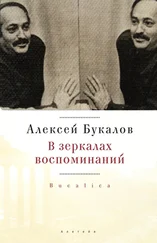Критик и публицист А.М. Скабичевский в статье в «Северном вестнике» (1886) восхищается пушкинским чувством истории: «В повести этой («Арап Петра Великого». – А.Б. ) впервые вполне обнаружилось глубокое и гениальное историческое чутье Пушкина. Первое, что вас поражает здесь, это идеальная объективность рассказа. Ничего тут ни преувеличено, ни преуменьшено… перед вами трезвая, реальная и беспристрастная историческая правда… Главное достоинство повести заключается в гениальном уменьи уловить дух времени в различных мелких нюансах обыденной жизни».
Критик особенно выделяет описание Пушкиным реальной обстановки петровского времени, «произвольное вмешательство Петра в частные, семейные дела своих приближенных, что носило характер чего-то стародавнего, патриархального, вотчинного… Эти спесивые и гордые люди поражают вас в то же время рабской приниженностью своей, и Петр со своею непреклонною волею тяготеет грозным роком над всеми действующими лицами романа… Несколькими могучими чертами обрисовывается вполне перед нами и политическое, и нравственное состояние целого сословия в эпоху Петра, со всем его и рабским страхом, и подобострастным ничтожеством перед необъятною силою грозного реформатора, который шутить не любил» [465].
Так литературный XIX век России отзывался о пушкинской исторической прозе, о ее первенце – «Арапе Петра Великого». Оценки своих предшественников дополнил незадолго до смерти Лев Толстой: «Главное у него – это простота и сжатость рассказа: никогда ничего лишнего…» [466]
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен…
А.С. Пушкин. «Второе послание к цензору» (II, 367)
В III книжке «Современника» за 1836 год Пушкин опубликовал свою статью «Мнение М.Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Статья эта очень важна для понимания литературных и эстетических взглядов Пушкина в последние годы его жизни. В статье цитируется выступление реакционного писателя и журналиста М. Лобанова в Российской академии: «По множеству сочиняемых ныне безнравственных книг ценсуре предстоит непреодолимый труд проникнуть во все ухищрения пишущих <���…> Кто же должен содействовать в сем трудном подвиге? Каждый добросовестный русский писатель, каждый просвещенный отец семейства, а всего более Академия, для сего самого учрежденная. Она, движимая любовью к государю и отечеству, имеет право, на ней лежит долг неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло, где бы оно ни встретилось на поприще словесности».
Пушкин категорически возражает: «Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не должна проникать во все ухищрения пишущих». В доказательство Пушкин приводит параграф цензурного устава: «Ценсура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону»(Устав о ценсуре, § 6. – Подчеркнуто Пушкиным) <���…> Если с первого взгляда сие основное правило нашей ценсуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону» (XII, 68). Пушкин это очень хорошо знал по своему собственному опыту! Финал пушкинской статьи совершенно недвусмыслен: увольте академию от цензуры!
Мы вспомнили эту полемическую заметку Пушкина в связи с цензурной историей «Арапа Петра Великого». Прохождение любой книги через цензуру напоминало бег с препятствиями – существовала система гласных и негласных барьеров, которую А.М.Скабичевский очень точно назвал «множественностью цензур» [467]. Была духовная цензура Синода, медицинская цензура для лечебников и медицинских журналов, цензура министерства внутренних дел, цензура министерства финансов, цензура горного департамента, а с 1833 года начал действовать Военно-цензурный комитет [468]. В 1869 году в качестве органа «педагогической» цензуры был создан Особый отдел ученого комитета министерства народного просвещения. Возглавлявший этот комитет в течение ряда лет А.Н.Георгиевский довольно откровенно признавался, что Особый отдел был призван охранять читателей от «тех немалочисленных изданий, которые имеют целью или могут расшатать умы и внести в них смуту в религиозном, политическом, социальном и нравственном отношении» [469]. В Особый отдел направлялись книги, уже прошедшие общую цензуру и, следовательно, признанные безвредными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу