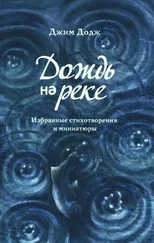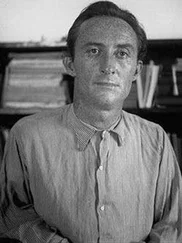И.Р. А что ты делал до этого?
Я. О! Я учился в машиностроительном техникуме – из которого меня выгнали, поскольку я не мог начертить ни одной по настоящему прямой линии. Я поступил сразу на второй курс Тбилисского финансово-кредитного техникума (в Тбилиси жил дядя, брат матери). И закончил техникум, и успел даже поработать год инспектором сельхозбанка на Северном Кавказе. Но в отсутствие начальства решил применить полученные знания на практике – опять выгнали. Уехал снова в Дружковку, к маме. Поработал немного страховым агентом, а потом решил зарабатывать себе «рабочую биографию», которая, как я понимал, очень нужна была начинающему поэту. Стал разнорабочим на складе. Таскал ящики с болтами и тяжелые мотки стальной проволоки – приходя домой, я падал и засыпал, даже не переодеваясь. Зато написал стихи: «Катали проволоку, складывали проволоку/ и кровь в висках стучала, будто колокол…» Так их нигде и не напечатал. Ежегодно посылал стихи в Литературный институт им. Горького и получал стандартный ответ: ваши стихи не прошли по творческому конкурсу. Решил собрать ровно пять таких ответов – а потом и впрямь куда-то поступать. Правда, в промежутке – поступал ещё и на актёрский факультет театрального института в Киеве. Я ведь был самодеятельным актёром, невероятно заразительным – едва я выходил на сцену, раздавался гомерический хохот. Спасибо, что не приняли – хотя потом я был и дотошным театральным критиком, и даже завлитом Тираспольского театра. Подумав о том, куда поступать, по некоторым соображениям решил поехать подальше, на Урал, в Пермь. Хотя и на филфак Пермского университета – тоже приняли не с первого раза. Вот тут и начались поездки Пермь-Дружковка с остановками в Москве.
И.Р. Ну, расскажи об этих «остановках» подробнее.
Я. Конечно, главное – Андрей! Огромное впечатление от его личности. И атмосфера абсолютного равенства – когда нет старшего и младшего. С какой энергией он меня «просвещал»! Он меня вводил и в круг своих эстетических пристрастий в поэзии. Показывал чужие стихи. Запомнились фигуративные стихи, стихотворение в виде песочных часов. А поразил Станислав Красовицкий. Понял, что тут мир рушится. Апокалипсис. Сейчас, через несколько десятков лет, с трудом нашёл в интернете стихотворение, тогда поразившее: «А волны стоят в допотопном ряду./ И сеется пыль мукомола./ Старуха копается в желтом саду,/ отвернутая от пола.»
И.Р. Ты так об этом говоришь, как будто и сейчас ещё потрясён.
Я. Да. Конечно, я тогда не знал, что эта старуха – может быть, из Хармса. Но ясно, что некий авангардный искус (Андрей говорил о себе «я футурист!») – наткнулся во мне на тихое сопротивление. Я жаждал гармонии. Того целостного мира, в котором «Неподвижное солнце сияет./ Неподвижная песня звучит». И я понимал, что этот целостный мир уже невозможен. И, однако же, твердил: «Но всё ж очнётся потрясённый разум,/ иначе бы не стоил и гроша,/ поднявшись над слепым многообразьем,/ невидимой гармонией дыша.» Написано сорок лет назад. Я и понятия ещё не имел о постмодернизме, но уже чувствовал, что враг – именно «слепое многообразье», что нужно какое-то единство, созвучие, согласие – как бы прозрение единства всего. Но поиск такого единства – не есть задача исключительно эстетическая.
И.Р. Духовная?
Я. Даже религиозная. Андрей тогда сказал мне, что Красовицкий стал священником. Да и сам он не скрывал своей религиозности – что меня, наивного атеиста, поражало. Причём его религиозность была какой-то удивительно органичной, простой. Он и мне посвятил стихи, в которых писал, что мальчишка шатается по городу – а на самом деле ищет Бога.
И.Р. Что ещё помнишь?
Я. Он показывал мне открытки, которые Бродский посылал из своей ссылки. Читал мне раннего Бродского – «Шествие», «Холм». И свои переводы Фроста. Он мне потом их присылал и в письмах – перепечатанные – и я видел, как он правит, находит окончательный вариант. И переводчик он был замечательный, и Фрост у него замечательный – вот певец бытия в том духе, в каком я говорил. Помню, как поразило меня стихотворение «Наша певческая мощь». Однажды я застал у него Асара Эппеля (поляков он тогда переводил гениально!) – и слышал весь разговор – очень филологический. Это был урок подлинной работы. Ввёл он меня и в круг друзей-переводчиков. Так оказался я в доме Аркадия Акимовича Штейнберга и видел там Арсения Тарковского, стоявшего с палочкой и читавшего стихотворение. Читал ли я там, в том доме свои стихи – не помню, но, разумеется, показывал их. Помню, что Аркадий Акимович достал из ящика стола «Четвёртую прозу» Мандельштама и сказал: «читай!» И больше я уже ничего не видел и не слышал. Какая великолепная литературная злость! И мной она овладевает – борюсь с её приступами… Мандельштам роднее всех – как будто я сам был им… В нынешнем году собрал все стихи, посвящённые Мандельштаму – получилась внушительная подборка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
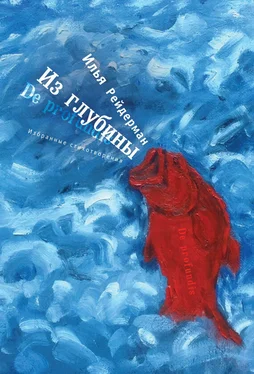

![Арсений Ровинский - Незабвенная [Избранные стихотворения, истории и драмы]](/books/31871/arsenij-rovinskij-nezabvennaya-izbrannye-stihotvor-thumb.webp)