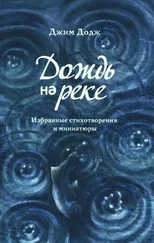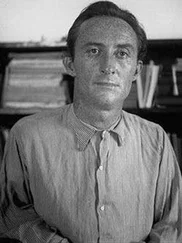И.Р. Стоп! Тут тебя многие не поймут. Лучше расскажи, как ты дошёл до жизни такой.
2.
Я. Если с самого начала – то родился в Одессе, в 37-м. Люди моего поколения – кажутся мне самыми живыми, даже в сравнении с теми, кто лет на десять-двадцать младше. Мать – из Дубоссар, из почтенной еврейской семьи, переехавшей в Одессу. Когда я удивлялся её образованности, она отвечала: я ведь ещё училась в гимназии. В юности она была красива, рисовала, увлекалась балетом, за её подругой-пианисткой ухаживал юный Додик Ойстрах. В благоприятных обстоятельствах могла бы сложиться блестящая судьба. Претензии к жизни пришлось умерить и выйти замуж за скромного бухгалтера фабрики игрушек. Но был он человеком необыкновенно добрым! К сожалению, я его почти не помню – его, «белобилетника», взяли прямо на улице города, когда фашистская армия подступала к Одессе, и мы получили от него только записку, написанную карандашом. Долго мы его ждали! Формулировка: пропал без вести. «Как может человек пропасть?» – спрашивал я в ранних стихах. Риторический вопрос. И сам человек может пропасть, и всё пропасть может – таланты, дарования, будущее… Сам я не пропал потому, что волею судеб мы попали на последний корабль, отплывавший из Одессы. Я ещё помню звук сирены и бомбоубежище. И корабль – бомбили. И поезда, на которых мы ехали всё дальше и дальше. Оказались в Забайкалье, в г. Черемхово, где я и пошёл в первый класс, ещё не достигнув «школьного возраста». А потом мы оказались на Донбассе, в Сталинской области, в маленьком городке Дружковка. У меня там умер друг юности поэт Эдуард Мацко. И книгу мне недавно толстую прислали (как сумели-то в нынешней ситуации?) – со стихами и портретами участников тогдашнего литобъединения при газете «Дружковский рабочий». И река, и степь донецкая, и холмы – помнятся благодарно. Но атмосфера детства, антисемитизм в среде сверстников, ужас вольного или невольного изгойства – не забываются. Юность, танцплощадка в парке, вульгарные девочки с шелухой семечек на губах…
И.Р. Ты – из другого теста?
Я. Но я ещё не догадывался, что я поэт. Начинал я с рассказов. Один из них, помнится, был фантастическим, и герои были мужественными, и разговаривали короткими фразами, как у Хемингуэя. Но главным событием была проснувшаяся во мне музыка. В маленьком городке можно было покупать книги. И пластинки. Праздником была покупка полукруглого чемоданчика – это был уже не патефон, а как бы примитивный электропроигрыватель. И в дом вошли и Моцарт, и Бетховен. В маленькой комнате в коммунальной квартире по вечерам мы слушали музыку с мамой. Как сладко! Как мучительно! Я не мог заснуть и проигрывал в голове целые концерты для фортепиано или скрипки с оркестром – и мне казалось, что это моя собственная музыка, хотя и вполне в духе великих авторов. Эта внутренняя музыка захватывала меня и днём. Музыкальное безумие продолжалось несколько лет. Мама мне рассказала, что в возрасте трёх с половиной лет она показала меня музыкальному профессору, и тот сказал, что у мальчика абсолютный слух, его обязательно нужно учить музыке. Имени профессора она не назвала – но таким мог быть в Одессе только один. Что такое абсолютный слух – я тоже не понимал. Потом я прочитал у Бориса Пастернака, как он забросил музыку, ибо вдруг узнал, что у него нет абсолютного слуха! Жаль ненаписанной музыки Пастернака. Что же касается меня – то из того, что я слышал внутри, я не мог записать ни единой ноты. Если я был рождён композитором – то несостоявшуюся музыку заменила поэзия. Впоследствии я много лет не без успеха занимался музыкальной критикой.
И.Р. Ну а как ты начинался как поэт?
Я. В ту пору господствовала газетная поэзия. Почитаемыми были Твардовский, Исаковский и Щипачёв. Каким открытием и потрясением был выход двух томиков Есенина в бумажной обложке! Обложки очень быстро оборвались… А об открывшемся на нужной странице томике Тютчева – я уже говорил. Мир нужно не только увидеть, но и помыслить. Мысль должна быть зрячей. И музыкальной. Я бродил в одиночестве, приходил к ночной реке, дальние огни отражались в ней: «отражённого света колонны/ погружаются в глубину». Я поднимался на обледенелый, качающийся под ветром железнодорожный мост, и видел звезду над ним. Я и сам не понимал, чего искал. Чуть позже я писал: «Какая даль таится/ во мне, в тебе, во всём…/ И разве нам простится,/ что это – не поймём?»
И.Р. Выходит, Тютчев в тебе откликнулся и как романтик?
Я. Да. Но свою глубинную связь с романтизмом (через Тютчева с немецким романтизмом) – я осознал позднее. А сама изначальная романтическая ситуация была в том, что я почувствовал себя чужим: в этом городе, в этой стране, – а более всего, в своем времени. Этому времени я решительно не хотел принадлежать. Запечатал я свои стихи в конверт и послал наугад – в литературную консультацию Союза писателей. Была тогда такая. И получил неожиданно тёплый и человеческий ответ за подписью Людмилы Сергеевой. А затем переписку взял в свои руки Андрей Сергеев. Не люблю писать мемуары. Но о некоторых людях, встреченных мной в жизни – всё же написал. А об Андрее – нет. Это был первый по-настоящему незаурядный человек, встреченный мной. Молодой, чуть старше меня самого – похож на молодого бунтаря ХІХ века, какого-нибудь народовольца. О чём я ему говорил. Андрей «вёл» меня до самой своей неожиданной гибели. Он успел позвонить мне и сказать какие-то странные слова по поводу моей второй книги «Пространство» – не решусь их повторить. Говорил, что написал по поводу книги подробное письмо – но оно, видимо, затерялось на почте.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
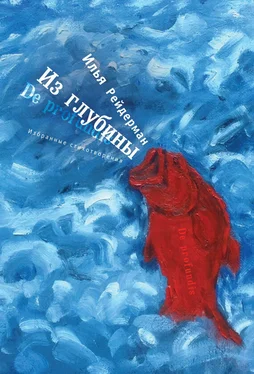

![Арсений Ровинский - Незабвенная [Избранные стихотворения, истории и драмы]](/books/31871/arsenij-rovinskij-nezabvennaya-izbrannye-stihotvor-thumb.webp)