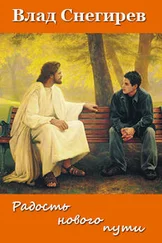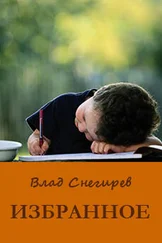Когда приходит век правителей бесславных,
то это наша, коллективная вина.
Нас слепо тянут в пропасть мрачную без дна,
где похоронено величие лет давних.
А жизнь у всех по-прежнему одна.
«Люди, люди – что же с вами…»
Люди, люди – что же с вами?
Поменялись вы местами
со зверьём, одев их маски,
без приказа, без указки.
Трудно жить без револьвера
офигенного размера
в мире столь материальном,
безнадёжно аморальном.
Нет ни счастья, ни покоя,
и вонючею трухою
оказалась жизни фаза,
но ведь нет противогаза.
Как холопу прокормиться,
словно я лесная птица;
словно я не звук – а эхо,
отблеск, тень былого смеха.
Вот, строчу из пулемёта
строчками в лицо блокнота,
кипячусь, да толку мало.
Просто вдруг обидно стало.
Прошло уже как будто двадцать лет
как мы вошли в отравленную эру,
не потеряв несбыточную веру
о том туннеле, где мерцает свет.
Но что мы знаем о судьбе планет, —
непознанных и разных по размеру?
Судьбу свою угадывать грешно,
здесь каждый шаг — как повод для волненья,
когда за взлётом следуют паденья,
а всё уже расписано давно.
Я думаю: вокруг черным-черно,
а вот внутри — плывут, дрожат виденья.
Прошедшее, грядущее — во мне.
Смотря в себя бесстрастно, безучастно,
я вижу свет отчётливо и ясно,
и чей-то взгляд в бездонной глубине,
где голос устремляется вовне, -
такой понятный, ласковый, но властный:
«Моя многострадальная страна,
где плачет и бежит безумный Каин,
стирая всё — от центра до окраин,
так в чём твоя невольная вина,
и почему ночь горькая длинна,
в которой рыщут с воем волчьи стаи?»
Тут голос смолк, не в силах дать ответ,
произнести живительное слово.
И полетели дни как тени снова,
но был далёк сомнительный рассвет.
Огня в золе остывшей уже нет,
когда душа для счастья не готова.
Это не в поле кричит вороньё,
там, за оврагом, кружась бестолково.
Слёзы стучат громко в сердце моё
в дикой стране, где не ценится слово.
Я не поведаю, что здесь не так,
смачно не буду плевать на иконы,
лучше пойду переулком в кабак,
чтобы не слышать проклятья и стоны.
Жалко себя и растраченных лет,
жара души, что растрачен в пустыне.
Нет уже Бога, и вечности нет
там, где господствует хаос поныне.
Я бы навеки забросил стихи,
в печке дотла сжёг свой опыт печальный,
лишь бы зарделись в потёмках глухих
искры, чтоб вспыхнул костёр поминальный.
Нету почтенья к портретам вождей,
я боль потерь чужакам не доверю.
Хочется бури и яростных дней,
только в себя уже тоже не верю.
Длится кошмарный, безрадостный сон;
помню, ведь были паденья и взлёты.
Боже, спаси нас от этих времён,
дай нам надежды, покоя, - хоть что-то.
Лишь бы ворчать, только сердце устало.
Родина есть и её вдруг не стало.
Солнце сияло, но скрылось за тучей.
Карлик горбатый забился в падучей.
Тут тараканы сквозь узкие щели
выползли дружно, наметили цели
и растащили – до капли, до крошки
всё из избушки на курячьих ножках.
Двинулись дружно тяжёлые танки,
хлынули деньги в распухшие банки.
Будто бы в шапке они – невидимке.
Лихо взымают с меня недоимки.
Я же, замызганный житель обочин,
вижу прекрасно, как мир стал непрочен.
Стал он какой-то козлино-звериный,
поздно искать неурядиц причины.
Вот, существую с улыбкой безверья,
тихо печалясь за запертой дверью.
Вьюжит позёмкой в степи дикий ветер,
вырвались вдруг из меня строчки эти.
Шёл ледокол, круша форштевнем льдины,
оставив след узорный за кормой.
Вокруг безлюдность северной равнины,
лишь ветер дует буйный и немой.
Вращался винт, уставший до предела,
был слышен плач изношенных турбин.
Но капитан уверенно и смело
вёл наш корабль над пропастью глубин.
Кричали чайки, проносясь над нами,
что впереди мороз бушует злой.
Он нас скуёт торосами и льдами,
не дав вернуться никому домой.
Читать дальше