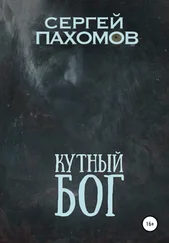Ветер горе гонит, как полы метёт, горло, что предгорье – кадыком вперёд.
Листья, словно нечисть, посреди двора, корабельною течью треснула кора…
Остовом осины, мачтою сосны, рванью парусины осени-весны,
Чайками на реях, как на проводах, греется и реет повсеместный страх.
В шелудивом поле – грязь и недород, пастбищные колья – вот и весь народ.
Не тяни ладошки, здесь не подают, палехскою ложкой за усердье бьют
По лбу… Колокольный высунут язык. Умирать не больно ежели привык…
Семеро по лавкам, а восьмой – в гробу, галкою-чернавкой села на трубу
Смерть и примечает, кто на завтра худ, словно продевает голову в хомут.
Вдруг случилось чудо: едет продотряд, в продотряде люди, как винтовки в ряд…
Пожалели деток, сбросили мешок… Да пяток конфеток… Так… На посошок.
Созревшим эхом виноградин стучал над оттепелью град.
Гудит земля, которой ради, я стал душой, как Сталинград.
Душа, как чёрная воронка, затянута теченьем лет
(Оплаканная похоронка, где горьких слёз желтеет след),
Перебинтована, как рана, и с кожей выдраны бинты,
Но кровь не сыплется – что странно! – весенним градом с высоты.
Открыть, как ободрать коленки, замок, царапая ключом…
Душа моя в Кремлёвской стенке лоснится красным кирпичом.
Скажу, не мудрствуя лукаво, друзьям, как всё произошло:
Она устала от накала, её скоробило, свело
Холодной судорогой снега – терпенью всякому предел
Приходит… Что до человека? Он – постарел…
Зыблемо и зябко свет дрожит луны, половая тряпка ненавидит сны.
Там, где умывальник, ёрзает она, как большой начальник в портупеях сна.
Помню: ты намыла грязные полы, я пришёл унылый, спирт из-под полы
Выдал мне в сельмаге тучный продавец (так отец в Гулаге «проглотил» свинец).
Спирт я вылил в кружку, приложив ладонь, выпил за понюшку, развернул гармонь…
«Валенки» состряпал… Ты, содрав кольцо, половую тряпку бросила в лицо
Мне – поиспугалась, дёрнулась к двери, сердце низвергалось у тебя внутри,
Думала: ударю… Нет – я промолчал, заливая харю, блеял и мычал.
Было не до смеха, минули года… Я к тебе приехал, щёголь хоть куда:
Новенький тулупчик, чёрный «Мерседес», а в глазах, как супчик, закипает бес…
Мы с тобой обнялись, улеглись в постель, долго целовались, чтоб прожить досель.
А чучундру-тряпку (не простой момент) я отнёс на грядку – пугалу в презент.
Ордынство осени… Листва – быстрей, чем конница Батыя,
Опустошает закрома пространства, ставшие гнедыми.
Мне нравится, когда светло и своевременно-прозрачно
По тихорецкой речке плот хромает, как худая кляча.
Так иго для моей Руси текло уныло и беззлобно…
Глаза тараща, караси дрожат на сковородке лобной,
Томятся, как моя душа в сметане волглого тумана,
Как на Угре без барыша два породнившиеся стана.
За триста лет народ в народ вошёл, как нож заходит в ножны…
Как гоголь в моголь… Я – монгол… и русский, но немного позже.
На подзоле, в подоле холодной, огибающей вечность реки,
Не заросшей тропою народной мы, чуть свет, понесём туески.
Помидорное солнце в камзоле, вздорный щебет пернатых шутих,
Одиночество, съевшее соли пуд, понуро бредёт позади
Подростковым размашистым шагом (кто успел, тот и смел, говорят)…
Вот грибы, в виде шашек и шахмат, на доске беломошья стоят.
Я запомнил народные тропы. Нет в помине народа теперь.
Приезжают на джипах циклопы и разлаписто ломятся в дверь.
Развороченным мхом, колеями, кучей мусора – лес напоказ.
Солнце потными тлеет струями, прикрывая единственный глаз.
На реке – тоже самое: лодки, сети, ругань, огни фонарей…
Спит деревня, пропахшая водкой, прозябает душа до костей.
Необратимо вечен, неотвратимо гол, сочится, огуречен, берёзовый рассол —
На добрые поминки об уходящих днях… (стихотворенье Глинки), и гобелен в сенях —
Над шаткою кроватью пугающей ночи – там обнажают братья пудовые мечи,
Юродивое войско там обряжают в путь, и мысль иного свойства мешает мне уснуть.
Кровавая короста, обугленная речь… Что происходит после, как завершится сечь?
Лежат, как зёрна смерти, на поле черепа, на поминальный вертел нанизана судьба…
Опять температура (стенают голоса), и смерть стоит, как дура, звенит оплечь оса.
Глядит определённо и теребит висок – в глазах её зелёный мерцает огонёк…
Я избегаю кошек – вечерних шансонье – и не кладу горошек ни в суп, ни в оливье.
Не поднимаю руку – товарища спроси – когда спешит по кругу свободное такси.
Рассеян и подспуден мой взгляд из-под венца: кузнечик изумруден в глазнице мертвеца!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






![Николай Пахомов - Антиподы. Детективные повести и рассказы. [Proza.ry]](/books/403124/nikolaj-pahomov-antipody-detektivnye-povesti-i-ra-thumb.webp)