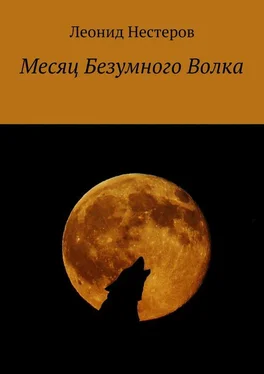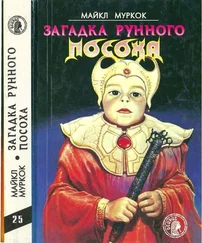Отбыла ты в такие края,
улыбнувшись от уха да уха,
что, загадку давно не тая,
проживает поэма твоя,
как привычная птица и муха.
Твой целебный загадочный свет,
голубой, как зарница с Босфора,
словно сшитый не нами жилет,
облегающий твой силуэт,
позабыт и вернется нескоро.
Твой круиз из карниза в туман,
что достался тебе за бесплатно,
вспоминается, как балаган,
как готический пухлый роман,
что листаешь туда и обратно.
Равнодушно встречая восход,
постороннему зову внимая,
даже кошка к тебе не придет,
после ночи бессонной зевая,
словно слава твоя мировая.
***
Ты меня приняла полустанком,
которому нет двадцати,
где еще до сих пор не замылены
люди, и звезды, и кони,
приняла-поняла,
что возможно всю жизнь провести,
пролетая сквозь годы
в изысканном спальном вагоне.
Поняла… нет, не так —
стал доступен удел и удар
без оглядки сойти
и пуститься в решенье простое…
Что поделать,
вдвоем наша стая была хоть куда —
только не было мира,
куда ее можно пристроить.
А потом напоследок привиделась нам темнота,
что на волю просилась из нашего духа и тела,
как безглазый ребенок-двойняшка,
скулила внизу живота
и, как птица ночная,
с невидимым шумом взлетела.
Я слова не люблю —
их подделать легко и стереть —
сотворенные нами вторичные мелкие твари,
то ли дело на голову криво кастрюлю надеть,
и руками всплеснуть, и тебя по коленке ударить!
***
Одна талантливая поэтесса
придумала физика-недотепу,
который спросил, напирая на аллитерации:
– Как можем мы жить, если над каждым
висит более сорока тонн тротила?
За окном было пусто и холодно,
глухо было в кармане, пойти было некуда,
и я – ни за что ни про что
оказавшийся в эпицентре вопроса —
вдруг понял, как стосковался
по черному хлебу правды
среди поэтических анчоусов и выкрутасов.
А действительно, КАК?
И я, грешным делом, поверил
обратному процессу переработки бумаги
в древо познания добра и зла —
какие плоды звенели на его ветках?
Сначала мне доказали,
что трава прорастет все равно.
Экое утешение на старости лет.
Я – человек! Как бы мне не свихнуться
от этого счастья кузнечика!
Потом обстоятельно и подробно
(за это время можно было зачать человека
или спалить государство)
мне рассказали о бедных греческих узниках,
о Вечном Женском Начале
и Хранителе Времени,
болтающем с интонациями
жмеринского портного.
Чтение этой литературы,
злоупотребляющей заглавными буквами,
напомнило мне кормление
павловской собаки с фистулой в брюхе,
и я подумал, что право тревожить мир
заслуживают лишь те, кто могут его изменить.
Да, технократия, да!
Да, элита рабочего класса —
стеклодувы и операторы станций слежения,
программисты и наладчики гироскопов!
Благодаря вас, мы бредем по колено в навозе,
но благодаря вам наши авгиевы конюшни
будут решительно вычищены,
даже если потом придется начать все сначала —
с червяка!
Так мы живем.
Одни переламывают мир, как двухстволку,
другие в эту минуту спрашивают по радио,
возьмет ли человек в космос ветку сирени, —
более дурацкого вопроса я просто не знаю! —
до тех пор, пока им доступно не объяснят:
лучше не иметь слуха и голоса,
чем музыкально кричать «и-го-го!».
Поэт, ставящий больные вопросы
и отвечающий на них в манере
первого ученика,
подобен зубному врачу,
который говорит человечеству:
«У тебя болен зуб мудрости,
но я не буду лечить его —
пусть болит!»
***
Под сердцем шевелится
осколок прежних лет:
красивая певица
поет, сходя на нет.
Маэстро на рояле
играет – как летит,
далекий от печали,
макушка – в конфетти.
Счастливый, он не знает —
не по его уму —
что руки простирает
певица не к нему.
Меня зовет певица —
живой воды глоток —
и праздник этот длится,
пока в розетке ток.
***
Обретя неизбежность ухода,
с легким сердцем и песней в крови,
муравей в ожидании Года
собирает пожитки свои.
Что возьмет он? О чем пожалеет?
Кто ему будет брат? Кто жена?
От поэзии быстро жиреют,
за границей она не нужна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу