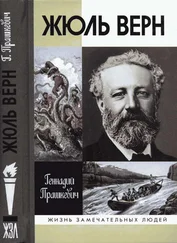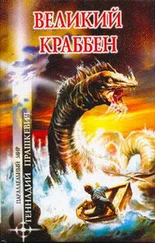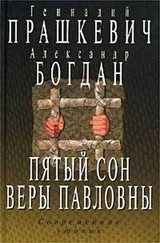Где музыка? Ей бы пора проявиться.
Туман? Но она не боится его.
Пора бы ей высветить радостью лица:
где музыка?
Музыки прежде всего!
Прозрачной и легкой, в сиянии света,
встающей над лесом, над шумом его,
чтоб всем нам служило смятенье поэта:
где музыка?
Музыки прежде всего!
Андрею Германову
А меньше всего
было женщин в море.
Дела Афродиты его не касались.
И женские руки
мужчин не касались,
когда корабли расходились на створе.
Но именно море
кричало о суше,
о брошенном острове,
сломанном кедре,
о ветре, взрывающем юные души,
и парусе,
нежно
беременном
ветром.
* * *
Я провидец.
в юности, в начале
долгих рек, из коих воду пил,
угадал: в Пиринах, на развале,
кто-то город белый заложил.
Угадал: когда-нибудь под осень
вспыхнет медью темная Луна —
над откосом, выпасом, покосом,
там, где стынет только тишина.
Угадал: когда-нибудь под вечер
над рекой, над дымкой голубой,
колокол ударит: всем на вече!
Ветер.
Вечер.
Вечность.
Боже мой!
* * *
Тайной вечери глаз
знает много Нева.
В. Х.
Все утро небо плакало,
лишь к вечеру устало.
О, как в саду Елагином
тебя мне не хватало!
Аукнулось на Прачечном,
откликнулось у Летнего,
в котором нами начато
неконченое лето.
Опять вдали аукнулось,
а я не откликался.
По темным переулкам
К тебе, как ветер, мчался.
Темные решетки
в золотых обводах.
И лодки,
лодки,
лодки
на потемневших водах.
И небо вправду плакало,
и был мне ведом страх.
Ведь дело не в Елагином.
Воспоминания о Нью-Йорке
Полдень. Небо распахнуто, как окно.
Зной ужасен, как долгострой, в котором уже не живут и совы.
Ветер, будто трубу, пронизывает давно
вечный город, и дальше летит, расшатывая основы.
Эта злая туманность и есть Нью-Йорк.
Шифер медленных крыш. Рябь на Гудзоне.
Кто поет о любви, а кто об озоне.
А в общем —
торг.
Жар чужого огня.
Ухожу из тоски, как из чеченского плена.
Я не вижу Бога в пределах своей Вселенной,
но и он, конечно, не видит меня.
Сохо. Полдень. Полотна у серой стены.
Два еврея, француз, и русская Нина.
Душный воздух стоит над городом, как плотина,
ничто не стоит своей цены.
Я спокоен. Толпа не пугает меня. Идиот,
я считаю, что время мое еще не совсем упущено.
Что цитировать? Бродского? Или все-таки Пушкина?
Мы не в Сотби, но все поставлены в лот.
Оттого и щемит мое сердце. Гвоздь
жесткой боли торчит, постанывает изгублено,
как сладкие колокольца на доме Любина,
названье которых запомнить не удалось.
Заметки на полях
И все-таки судьба угомонилась,
пусть ненароком, будто невзначай,
она сменила божий гнев на милость,
а горечь соли – на крепчайший чай.
И за тоску потерь и одиночеств
я награжден, как и хотелось мне,
признаньем женщин, ласковых пророчиц,
что втайне славу предрекали мне.
Теперь я знаю, мне хватило силы,
никто не скажет, как не о бойце.
Бессилие, что так вчера бесило,
оставило лишь тени на лице.
И задыхаясь, зная, так бывает,
я повторяю давнюю строфу:
«От радостных вестей не умирают,
а горестные я переживу».
Художник
Художник, написавший дивный лик
своей жены, давно с женой развелся.
Он странствовал,
искал,
любил,
боролся.
Ему под сорок,
он уже старик.
Всего достигнув, он живет в глуши.
Забыты надоевшие тирады
о вечном нетерпении души.
Он просто добр, и этому все рады.
Он бродит по дорожкам.
Дрогнет лист —
он восхищен.
Он слушает, как птица
поет и плачет.
Хочется молиться
тому, что мир и трепетен, и чист.
И все-таки бывает, что рука
вдруг ноет, ноет, тянется то к листьям,
то к лужам (в них проходят облака),
то, обречено, к выброшенным кистям.
И сердце начинает замирать:
взять кисть, вернуть любовь и наслажденье,
вернуть давно ушедшее виденье,
воскреснуть! —
и блаженно умирать.
Но он молчит.
Он все узнал давно.
Не пламя в нем, а только трепетанье.
И все-таки томит его желанье —
Вновь женщину вернуть на полотно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу