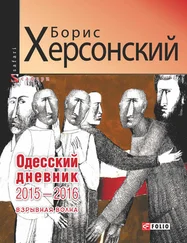Стать субботней трапезой праведника грешнику —
благодать.
Потому что негоже в субботу праведнику голодать.
Став фаршированной рыбой, свой грех отец искупил.
И ребе Юдл со вкусом поел и вволю испил.
А ночью ему приснился отец, старый тучный еврей.
Он сказал: "Ребе Юдл! Плоть моя в утробе твоей,
и за то, что в субботу тебя я насытить смог,
мне отныне открыта дорога в райский чертог.
За услугу – услуга, ты сыт, а отец твой спасен".
Ребе Юдл, проснувшись, подумал: какой замечательный сон!
Живи еще хоть четверть века
где был фонарь теперь двадцать пять фонарей
где была аптека теперь двадцать пять аптек
а улиц никто не считает и путь до дверей
квартиры никак не отыщет мил человек.
поскольку мил человек пьян почему бы нет
поскольку путь до дверей двоится в глазах косых
и где-то был служебный его кабинет
и где-то было дело от сих до сих
и он человек говорит кому-то оставь ослабь
и он человек говорит ну давай ударь
и что ему тот канал и его ледяная рябь
и что ему та аптека и тот фонарь
и что ему тот поэт александр блок
все восемь томов как девушки в голубом
заставил дурня молиться предвечный Бог
и дурень знай колотит в гранитную стену лбом
"Жизнь по пословицам – клин вышибали клином…"
Жизнь по пословицам – клин вышибали клином.
К чужому телу липла своя рубашка.
Где вы теперь – Фима, густо смазанный вазелином,
засахаренная Фаина, усушенная Наташка?
Где купленные на сходке записи на виниле,
заря и зенит великого рок-н-ролла?
Где песни о главном, где наша партия в силе,
где гнусный официоз и сладостная крамола?
Опять же палатки, в которых мы ночевали
в лесках, на косе, у моря и у лимана.
Опять же вино на табаке у бабушки Вали.
Опять же монетка на дне пустого кармана.
Опять же в кухне – таз с немытой посудой.
Опять же – стихи на страницах школьных тетрадок.
В ящиках старые фотки желтеют грудой.
Всё собирались, но не привели в порядок.
"Пал бы в ноги кому, да боюсь – затопчет…"
Пал бы в ноги кому, да боюсь – затопчет.
Нашептал бы что властителю, да боюсь – не поверит.
Чехов давит по капле раба. Капля камень точит.
Старый Тютчев Россию общим аршином мерит.
Кричит на крыше сарая пестрый клювастый кочет.
Бредит о сивой кобыле не менее сивый мерин.
Спел бы песню, да кто бы подыграл на гармошке?
Подыграл бы кому, да кто бы запел в охотку?
Была загадка такая: стоит Антошка на одной ножке.
Думали – гриб, а это Чехов, – узнали бородку?
Над заросшим прудом летают мелкие мошки.
Приехал доктор – будет лечить чахотку.
"Пусть горы воспоют, пусть волноплещет море…"
Пусть горы воспоют, пусть волноплещет море,
пусть жители небес трубят во все концы,
пускай слепец прочтет страдание во взоре,
поскольку нет существ счастливей, чем слепцы.
Невидимый простор таинственен и странен,
наполнен звуками, и тонкой трости стук
подскажет нищему, убит он или ранен,
на муки осужден иль отстранен от мук.
Вокруг него скитальцы и страдальцы
под стенами идут, подняв воротники,
мечтают о своем, дыханьем греют пальцы,
касаются рукой, не чувствуя руки.
У входа в лавку, как у двери рая,
стоит десяток изможденных тел,
такие взгляды в ближних упирая,
что быть слепым – счастливейший удел.
Групповая фотография
7 ноября 1979 года
Этот высокий, с заметными залысинами,
часто восклицавший: "Как? Пельмени без водки?!",
замерз на улице лет двадцать тому назад.
Этот поджарый, в зеленом плаще,
часто говоривший: "Это не еда —
это закуска", как ни странно, жив,
и в неплохой форме,
по крайней мере, его еще можно узнать при встрече.
Одна беда – он не узнает никого.
А эту, улыбающуюся, с французской стрижкой,
в длинном пальто и в больших очках,
узнать нельзя, хотя она и носит
то же самое пальто.
Впрочем, пальто тоже изменилось
до неузнаваемости.
Этот шатун в шляпе с перышком
как сыч сидит дома и не высовывает носа.
Поэтому, когда его пятая жена
отвечает по телефону, что мужа нет дома,
все понимают, что она лжет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

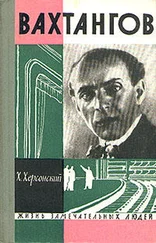

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)