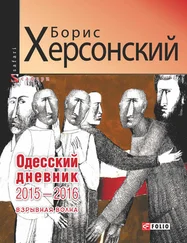Сидишь в нарукавниках, лысый, лишенный особых примет,
щелкаешь счетами, будто компьютера нет,
заполняешь страницы тайной конторской книги,
на тебе – проклятье, на нас, дураках, – вериги,
с нами свет, но, блин, нам не мил этот белый свет!
С нами Бог, но зачем Он нам – не пойму.
Видно, тайна сия велика, нам не по уму.
И, положа ладонь на горящее сердце,
скажу, что есть очарование в иноверце,
и я бы сменял свой свет на его сокрытую тьму.
Я бы в ней копошился, как добросовестный крот.
Писал бы не слева направо, а наоборот.
Построил бы башню, вступил в борьбу с небесами…
Но нет! Вы нам не нужны! Мы и сами с усами,
мы и сами погубим человеческий род.
Хлопает дверь.
Тяжелая поступь пьяного человека
по железной лестнице бывшего черного хода.
Он ушел. Наконец-то он ушел.
Дочь помогает матери
подняться с пола, вытирает ей кровь с лица,
ведет в ванную.
"Он изменится, он изменится к лучшему, —
так она бормочет, как монах Иисусову молитву, —
он скоро изменится…"
Выключаю телевизор,
не дослушав сводку последних известий.
Мир изменится, думаю я, мир изменится к лучшему,
он скоро изменится, не может быть иначе.
"Горящие путевки в холода…"
Горящие путевки в холода.
Подернутая корочкой вода.
Гуляют пары в парках санаторных,
почти пустых, а потому просторных.
Да, не сезон. Но, впрочем, города,
приславшие сюда оздоровляться,
ужасны. И не стоит удивляться
что, вырвавшись оттуда, "господа
и дамы" как бы просятся в объятья,
не веря чувствам, не страшась проклятья,
не мысля, не сгорая со стыда.
Они – подобья парковых скульптур,
частично сохранившихся. И все же
порою холодок бежит по коже.
Старорежимный мраморный амур
сгибает лук, и стрелы меж лопаток
торчат, и срок тоски любовной краток,
как посреди работы перекур.
Итак, листва хрустит под каблуком,
скамейки сиротеют вдоль аллеи,
фонтан иссяк, видать, воды жалея.
И денежки, что выделил профком
(сказать вам честно – жалкая подачка),
закончились, и в ход пошла заначка —
все собранное от семьи тайком, —
за книжками, за старым пианино.
И осень привечает гражданина,
скорее над хмельком, чем под хмельком.
враг перешел границу
а граница не понимала
враг захватил столицу
а столица тихо дремала
враг соблазнил девицу
а девице и горя мало
в срок родила ублюдка
а потом лишилась рассудка
иссохла совсем запостившись
и дитя прокормить ей нечем
а враг исчез не простившись
ушел никем не замечен
1
Пытливый Бог, из облака следящий,
к примеру, за подсчетом голосов
на местных выборах, за точностью часов
на мэрии, как видно, спрятал в ящик
наш разум и задвинул на засов
подалее от ангелов парящих.
В коробке косной костной черепной
мысль взаперти, как за глухой стеной.
2
Вот вековой платан широколистый
(о чае скажут – крупнолистовой)
шумит над непокрытой головой
поэта, и узор волос волнистый,
но бронзовый. Почетный постовой
в молчанье напрягает лоб бугристый.
В четыре струйки из нелепых рыб
течет вода. Поэт давно погиб.
3
Невольник смерти (в смерти нет свободы),
невольник чести (в школе наизусть),
слуга императрицы (ну и пусть),
слуга породы или царь природы
навек застыл, изображая грусть.
Пожил бы с нами здесь в лихие годы!
Плевок – в ответ улыбка и кивок.
Лакей с мундира уберет плевок.
4
Мы все его лакеи. Суть лакея —
очистить обувь на его ногах,
начистить рожи на его врагах,
со щеткою сгибаться не умея.
Темнеет рано. Барин весь в долгах.
А нам, рабам, положена ливрея,
случайный золотой из барских рук
и обращенье "Услужи-ка, друг".
"Лещенко поет про Дуню да про жирный блин…"
Лещенко поет про Дуню да про жирный блин,
повизгивает скрипочка, рыдает гармонь.
Девушке под юбку лезет офицер-румын,
девка бьет его ладошкой, говорит: "Не тронь!"
А румын не понимает, да ему ни к чему.
На подносе два графинчика несет половой.
Водочка – подпорочка нетрезвому уму,
где мужчинка с бабой, там инстинкт половой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

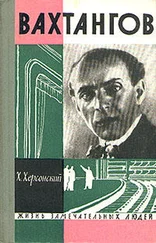

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)