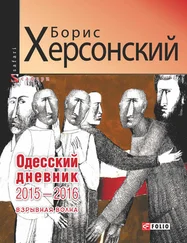не все тебе маленький рыхлые гланды
шпатель давит на язык в горло светит лампа
не все летняя простуда дачная веранда
оранжевый медведь плюшевая лапа
будет маленький зима шубка из цигейки
чугунные ворота лампа из-под арки
будет и коллекция царские копейки
царские копейки царские подарки
почтовые марки седов да папанин
серебряный рубль двадцать четвертого года
на рубле в обнимку рабочий и крестьянин
во дворе щенок неизвестная порода
будут черные гантельки чтоб росла сила
будут истребители летать быстрее звука
а дяде славе ноги война откусила
земля проглотила не подавилась сука
на протезах ботинки совсем незаметно
только стук и скрип или если приглядеться
остальное тело дяди славы бессмертно
будет вечно ходить так я думал в детстве
"Здесь ты стоишь, и не можешь иначе, и не…"
Здесь ты стоишь, и не можешь иначе, и не
можешь так, как стоишь, кажется мне.
Стоишь, выдуваешь в помятый, шестидесятых годов,
саксофон
мелодии тех же времен. Посередине клумбы грифон
златокрылый, с изогнутым клювом, лев,
терзавший златогривых коней, златокудрых дев.
Но ты не дева, не конь, а обычный лабух, давно
на заслуженном отдыхе, в сквере, на дно
фетровой шляпы бросают копейки-рубли,
кто промахнется – не страшно, ты подымешь с земли.
У моря, у синего моря, с королевою красоты,
была ведь хорошая музыка, Гагарин глядел с высоты
на наши земные квартирки, танцплощадки, кафе,
матросиков в бескозырках, офицериков в галифе,
постовых на перекрестках – каждый с жезлом
в полосочку, разумеется, на девушек за столом
открытой веранды и думал: если вернусь – заживу
на всю катушку, каждый вечер на сладкое – рандеву.
Дыхания не хватает, саксофон хрипит.
Соберется дождик, святой водой окропит,
смоет грехи с прохожих,
безжалостных, толстокожих,
и будут монетки в шляпе, и водочка, и общепит.
"Боги Египта заполняют подвальный музейный зал…"
Боги Египта заполняют подвальный музейный зал,
как пассажиры – провинциальный вокзал.
Сидят на черных подставках, как на чемоданах,
и хоть бы кто слово сказал,
хоть бы кто улыбнулся шакальей пастью, кошачьим ртом,
соколиным клювом, хоть бы им объявили посадку,
и всем гуртом
они повалили бы на гранитный перрон и сели
в общий вагон,
четыре тысячелетия – всего один перегон.
Кто идет вдоль истории вспять, желая найти исток,
упрется лбом в каменный барельеф – Древний Восток.
У той стены – саркофаг, расписной сундук.
Постучи, ё-моё, в него – может, кто отворит на стук.
Из окна поликлиники смотришь на шлях,
стаей кормятся птицы на сжатых полях,
вдоль дороги деревья – за тополем тополь.
Спуск к лиману. Слегка серебрится вода.
Грязный автовокзал и дома в два ряда,
мальвы-розы, заборы, столбы, провода.
Невелик город Овидиополь.
Санитарка, поднявшись на третий этаж,
водит шваброй по полу. "То ж празнык, а наш
брат працюе. Пречыста. Вэртайтэсь у мисто". —
"Рождество Богородицы?" – "Доктор, хиба ж
знаю я? Люды кажуть – Пречыста".
Прохожу мимо церкви. Конечно, она,
как в те годы положено, разорена:
склад шкафов и больничных кроватей.
Дверь открыта. Опилки на битом полу,
дверцы тумбочек. Есть и икона в углу —
преподобные старцы Зосима, Савватий.
Смотрят в разные стороны. Обе руки
держат белые маленькие Соловки.
Рясы, бороды, мантии, клобуки,
деревянные ноги длиннее ходулей.
Между ними мохнатые пчелы снуют,
вместе с пчелами ангелы гимны поют,
все слетаются в улей.
Вот подходит автобус. Теперь два часа
на дорогу. Недвижно стоят небеса.
Городок отодвинут назад и налево.
В стороне – тополя. Неподвижна листва.
Так спокойно кончается день Рождества
твоего, Богородице Дево.
"смиренное кладбище не так уж смиренно…"
смиренное кладбище не так уж смиренно
оно затягивает постепенно
разросшийся кустарник чугунные оградки
смерть садила огород возделывала грядки
мраморный ангел закрыл глаза рукою
доля-то какая горе-то какое
а в том-то и горе что горя-то и нету
есть простор прозрачному вечернему свету
а в том-то и горе что горе уходит
уходит оглядывается глаз не отводит
от ангела лицо закрывшего рукою
уходи отсюда оставь меня в покое
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

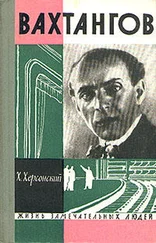

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)