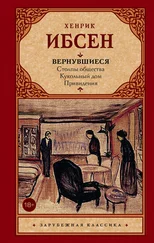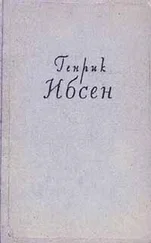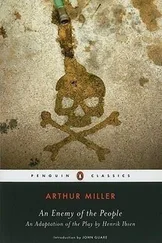Пустите! Тут нельзя вдвоем.
Пассажир
Со мной не трудно, я пловец,
а если изведусь вконец,
одну ладонь просуну в щель
и отдохну. Да скоро мель.
A propos [23] Кстати (фр.) .
, труп!
Пер Гюнт
Пассажир
Но, если все пошло ко дну,
о чем жалеть?
Пер Гюнт
Пассажир
Ну что ж! Не будем – время ждет.
Молчание.
Пер Гюнт
Пассажир
Пер Гюнт
Пассажир
Пер Гюнт
(рвет на себе волосы)
Нет, скоро я с ума сойду.
Вы кто?
Пассажир
(кивая)
Пер Гюнт
Пассажир
Ну, вы с людьми моей когорты
общались.
Пер Гюнт
Пассажир
(тихо)
Он был для вас в пути ночном
путеводительным огнем?
Пер Гюнт
Тогда скажите по секрету,
быть может, вы – посланник света?
Пассажир
А вам не доводилось вдруг
изведать ужас, страх, испуг?
Пер Гюнт
Да, людям свойственно бояться.
Но я вас не пойму, признаться.
Пассажир
В вас есть одно такое свойство:
вас страх толкает на геройство.
Пер Гюнт
(глядя на него)
Но если вы несете свет,
то вы пришли не в добрый час:
плохое время для бесед,
когда волна идет на нас.
Пассажир
У камелька, в разгар обеда,
верней была б моя победа?
Пер Гюнт
Вы за насмешкой скрыли суть —
меня не так легко согнуть…
Пассажир
Но я посланник той страны,
где смех и проповедь равны.
Пер Гюнт
Но то, что мытарю привычно,
архиерею неприлично.
Пассажир
Из тех, чей прах хранится в урнах,
не все ходили на котурнах.
Пер Гюнт
Нет! Я погибнуть не могу —
я должен быть на берегу.
Пассажир
О, не тревожьтесь без причины:
в последнем действии мертвец
всегда бывает под конец,
а это только середина.
(Исчезает.)
Пер Гюнт
Теперь я разобрался, кто он, —
морализирующий клоун!
Кладбище на высоком плоскогорье. Похороны. Звучат последние псалмы.
По дороге, ведущей к кладбищу, бредет Пер Гюнт.
Пер Гюнт
(останавливаясь у ворот)
Кого-то провожают в дальний путь.
Другого – не меня. Пойти взглянуть!
(Присоединяется к толпе.)
Прест
(над свежей могилой)
Теперь, когда прошел он путь земной
и плоть в гробу – всего стручок пустой,
а душу судит в горнем небе Бог, —
присмотримся к извилинам дорог,
которыми он шел к рядам могил.
Я расскажу вам, братья, как он жил,
нам надлежит поговорить о нем.
Ни счастьем, ни богатством, ни умом
не выделился он в мирской борьбе,
да и в семье держался так себе.
И в Божий храм входил он осторожно,
как бы в сомненье, что молиться можно…
Он был чужак. Из Гудбраннской долины
парнишкой он пришел и с той годины
все прятал руку правую в карман —
он думал, что людей введет в обман,
как робкие обманывают дети,
но истину не скрыть на этом свете;
хоть он от вас держался вдалеке,
вы все же знали, что на той руке,
которой он не смел вам показать,
четыре пальца было, а не пять.
Так вот. С тех пор прошло немало лет.
Я в Лунде был. Там собран был совет.
То были дни, когда по всей стране
шли разговоры только о войне.
Дождались люди – и приказ был дан,
набор объявлен. Старый капитан,
сержанты, пристав, ленсманы за ним
вошли, уселись за столом большим,
и юношей по списку вызывали,
осматривали: плечи, рост, спина, —
и сразу в строй – и в части посылали.
Народ гудел, теснился у окна —
и вот тогда на вызов капитана
парнишка вышел – бледный, весь в поту,
обмотана рука тряпицей драной,
рука в крови, куда-то в пустоту
уставлен взгляд – и, обрывая фразы,
но подчинясь суровому приказу,
он рассказал историю о том,
как отхватил нечаянно серпом
себе он палец… И тогда в дому
так тихо стало. И в лицо ему
немые взгляды сыпались камнями —
и долго перед этими глазами
стоял он молча, как побитый зверь,
а капитан привстал из-за стола,
бородкой указал ему на дверь
и даже плюнул, помнится, со зла.
И перед расступившейся толпой
тащился он, понурый, как сквозь строй.
Но только он перешагнул крыльцо —
мне показалось, что его лицо
светилось счастьем. И его несло
в какой-то детской озорной отваге
то на вершины, то через овраги…
Наутро он пришел в свое село.
А к нам переселился он весной,
арендовал на дальнем косогоре
клочок земли; с ним был малыш грудной,
старуха мать и та, с которой вскоре
он в брак вступил, с которой разделил
неизмеримый труд. Больной рукой
он заступ взял, и камень вековой
в распаханное поле превратил,
хотя его не раз предупреждали,
что воды там весною бушевали.
Как прежде, искалеченную руку
в карман он прятал, хоть его рука
трудами искупила грех и муку.
Но в половодье смыла все река.
Семья спаслась, он вновь построил дом
вон там, вверху, на выступе крутом,
куда не хлынут воды. Но судьба
несла невзгоды: новая изба
была разбита кaмeннoй лавиной.
Но грозным силам он не уступал:
дробил скалу, и строил, и копал.
Меж тем в его семье росли три сына.
Пришла зима, он справил новоселье,
пора направить в школу сыновей —
но путь в село лежал через ущелье,
над пропастью он на спине своей
нес младших; старший мог добраться сам,
то вверх, то вниз, ступая по камням.
Так выросли три крепких сорванца,
но, помнится, они недолго жили
в родном краю. Просторы их манили.
Они забыли родину, отца.
В Америке своим умом и хваткой
они смогли составить капитал.
Отец же шел своей дорогой шаткой.
Обременен годами и семьей,
высоких истин он не постигал,
и холодно, как бубенец пустой,
звучали для него слова «народ»,
«гражданский долг», «отчизна», «патриот»…
Он в облике своем носил смиренье:
он перенес позор и униженье,
он преступил закон, норвежца честь
он запятнал. Но в этой жизни есть
то высшее, что светит над законом,
как над блестящим ледниковым склоном
пылает солнце. Кровь его и плоть
для мира, для Норвегии была
бесплодный куст, отрезанный ломоть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу