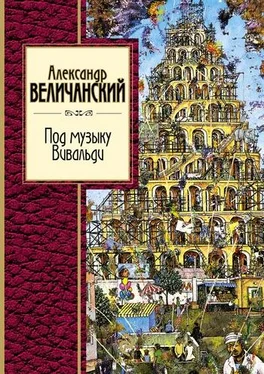Сила ли, слабость, облик, лик —
мы коренимся в нас самих —
суглинок или чернозем
нам нипочем – в себе несем
мы тот поток, что перейти
попробуй обреченно ты:
вот уж по пояс, вот по грудь
системы кровеносной глубь.
Были вы – воздух:
я слушал извне,
как этот отзвук
стихает во мне,
но словесами
вы стали, как есть…
чьими глазами
теперь вас прочесть? —
знаете сами,
я стал им чужой —
чьими глазами?
чьею душой?
«Течет вода, но отраженье…»
Течет вода, но отраженье
на ней недвижно. Жизнь и есть
воды подспудное движенье
куда-невесть, куда-невесть.
А что же дальше, Бога ради,
скажи? – За треском тростников —
недвижный взор окрестной глади,
и в нем движенье облаков.
«Как в детстве я любил ходить по кладбищу, что рядом…»
Как в детстве я любил ходить по кладбищу, что рядом
с Всехсвятской церковью (давно снесли его под дом),
и безымянные читать не имена, а буквы
и числа – сей кратчайший сказ о жизненном пути.
…К могилам гнулись дерева и бабушки в платочках,
и с фотографий на крестах, как прежде с лиц живых,
сошел румянец-анилин – казалось, загрубели
безликие черты: мороз, ненастье… И тогда
не понимал я, чем влеком я был к тому погосту,
что век не разомкнет уста, объятия крестов
век не сомкнет… и почему я вроде бы стыдился
прогулок этих средь могил горбатых, но теперь
я понимаю: дело в том, что я СТЫДИЛСЯ СМЕРТИ —
казалось мне, я подсмотрел зазорное, и стыд
мой был младенчески глубок. Да: я стыдился смерти,
я и теперь ее стыжусь, коль с нею тет-а-тет.
Донага обобраны —
у своего ж порога,
оскверненные извне,
равно как изнутри,
церкви заблудившиеся
стоят одиноко
по обочинам дорог,
по которым шли.
Скажи, Бога ради,
вдруг былого лед
не растаял сзади,
а уплыл вперед,
и в грядущем только
дней прошедших наст
предательски тонко
поджидает нас?
Два глухонемых
на лавке сырой,
один – стар и тих,
помоложе другой.
Невнятица рук.
Глаз круговорот.
Пронзительный звук
гримасы. Но вот,
устав от речей
рукотворных юнца,
старик невзначай
ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА.
Октябрь трясет
падучей листопада,
и что ни год,
то явственнее нам:
и ты, и я —
давно в преддверье ада —
прощения
по разным сторонам.
Все воск, да воск…
Так где же пламя?
Нет искры? Фитиля?
Иль нет чего гореть огню во имя,
все прочее испепеля?
«Какой уж там верблюд иль чудный град…»
Какой уж там верблюд иль чудный град,
иль беличья распластанная шкурка —
но как походит на души разлад,
или на мозг блаженного придурка
юродивого облака разряд.
«Настала эра… переворотов…»
Настала эра… переворотов,
и, как предсказывал Достоевский,
безбожники впрямь друг к другу жались
в объятьях или в трамвайной давке,
в бараках или же в коммунальных
перегородках квартир дремучих,
в «телятниках» иль в полей застенках
колхозных – но не любови ради:
погибель стиснула их, связала,
но узами одиночеств только:
так в царстве разума, в царстве братства,
не чуя ног своих – только плечи,
овца немыслимо одинока,
хоть и несома волной отары.
«Не в злато и не в латы…»
Не в злато и не в латы,
не в шелка яркий цвет —
всяк ком земли когда-то
был в саван свой одет,
и были его крылья
не за спиной – в груди —
ком злого изобилья
безоблачной земли.
Не распахивая, как
летом – сжав людей в кулак —
средь пространств и полумер
безответный дует ветр —
из таких он дует сил,
так решительно и резко,
будто что-то натворил
и желает отпереться.
«Так пышут златом купола…»
Так пышут златом купола,
холодным пышным златом,
так снежна даль сгорит дотла,
сожженная закатом —
так на устах не крови вкус —
потерянного рая —
что испытал терновый куст,
горевший не сгорая.
Один из юношей младых,
пройдя сквозь вереск грез,
лег на постель свою, сказав,
что жизнь – долина слез:
долина слез, долина слез,
а не долина грез,
в ней плачет малое дитя
и воет чей-то пес.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу