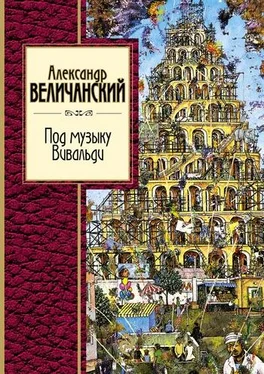«Как мир в отмеренной плоти…»
Как мир в отмеренной плоти,
во вретище ее
в сравненье с дальностью пути
сам – недобытиё:
он ловит воздух жизни сей
зиянием могил —
за хвост свой посох Моисей
так некогда ловил.
Как пропасти лакун,
твой полнодневный взгляд
был нестерпимо юн —
не юн, но вечно млад,
как, собственно, века,
где истовости ад:
средь пепелищ греха
огни его горят.
Неси скорее
дровец с крыльца,
и руки грея
о пыл лица,
гляди, как плачем
горит смола,
как ал и алчен
огонь сперва,
чтоб речь отпела,
и искор сноп,
и купол пепла
остался чтоб,
чтоб осень тлела
бы за окном,
как уголь спелый
в жару печном.
«Надо дойти до стены, то есть до тупика…»
Надо дойти до стены, то есть до тупика
и, обернувшись, в кирпич упереться плечами:
все, что скрывалось, хоть было весь век пред очами,
душе на миг, но откроется наверняка.
«Снег, что ордою налетел…»
Снег, что ордою налетел —
белей, чем лета был пробел,
и небеса стоят босые
в закатном розовом снегу —
ни зги, ни звука, ни гу-гу —
что ж так живит тебя, Россия,
морозов ли анестезия?
Когда зима слетелась вся…
Разительна твоя краса.
«Боль – род одиночества…»
Боль – род одиночества,
раз от нас она,
как в миг боли – почти всё,
не отделена:
с трепетной опаской
спрятав под белье,
как камень за пазухой,
носим мы ее.
Человек одинок,
как в груди клинок.
Человек одинок
с головы до ног.
Человек одинок,
словно во вселенной Бог.
Оттого, что виноват
с головы до пят.
Пусть, погорячившись,
мы охладеваем вдруг
навсегда друг к другу,
подружки, товарищи,
все же есть тепло в нас
и в бешенной стуже вьюг,
потому что «Бог наш
есть огнь поядающий».
Когда синей гладью
станут клочья туч,
холодной печатью —
горячий сургуч,
времени и места
вечный мир скрепя,
станет наконец-то
мне не до тебя.
«Осень. Вечер не медлит…»
Осень. Вечер не медлит.
С наступлением тьмы
даже звуки померкли,
потускнев, как огни,
когда вкруг излученья
стало вправду темно.
…Что ничтожней отчаяния,
коль ничтожно оно?
В одном поселке,
что нынче – город,
оставив фабрику,
англичане
оставили
пролетариату
октябрьскому
нечто вроде клуба
с оградою
и парадным входом —
клуб назывался
Народным домом
и при, и после
своих хозяев.
До революций
в Народном доме
ткачи с ткачихами
пили пиво,
кадриль субботнюю
танцевали
и даже ставили
представленья:
«Разбойников»
или «Дядю Ваню».
А по прошествии
революций
в чуть обветшавшем
Народном доме
не только пиво
или кадрили
ткачи с ткачихами
затевали —
то митинг, то
«антиклерикальный»
разоблачающий
Бога диспут,
и местный батюшка,
схожий ликом
с иконой новою,
бородатой,
в конце бессмысленных
словопрений,
разбитый в пух,
говорил приходу:
«Помолимся ж
во спасенье купно», —
и клуб молился
единогласно.
…Но не о том я:
по истеченьи
времен, позвольте
я сообщу вам
одну простую,
как нота, тайну:
в то лихолетье
вслед зим бездымных
бывали так же,
как нынче, весны,
и вновь трудящиеся
смотрели
«Разбойников»,
или «Дядю Ваню»,
балы весенние
затевали,
хоть и на новый лад,
но как прежде.
И заводилой
в веселье этом
был местный служащий
лысоватый
иль молодой,
или моложавый
в штиблетах и
по прозванью Кистер —
весельчаком был
и острословом
и пел людям
под свою гитару
романсы иль
про себя куплет:
«Шапку набок,
жены нет —
это Кистера
портрет».
Он одинок был
и гол, как лампа,
в его каморке
весенней ночью,
когда черемуха
за оконцем
лишь смеркнется
на мгновенье ока
и вновь затеплится,
зажигаясь —
так одинок
и почти прозрачен,
и призрачен,
что исчез однажды
навеки из
своего веселья;
так одинок,
что и не спросили,
как нынче в Чили
иль в Сальвадоре,
ткачи с ткачихами
у начальства:
«Куда пропал
наш веселый Кистер?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу