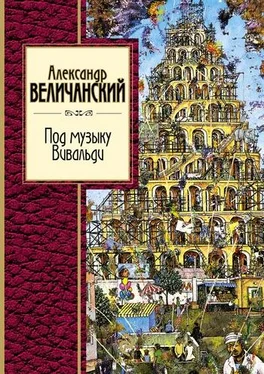Ты съеден нашим пеклом,
и, как заведено,
твой пепел смешан с пеплом
сожженных заодно
с тобой – в одну декаду?
иль месяц – знать бы надо,
но знать о том, нам смертным, не дано.
Там свой режим. Но ясно
одно: в геенне той
небрежно-безобразной
из кучи из одной
по пепельницам вас всех
распихивают наспех —
в белесый гипс – ваш пепел чуть живой.
Вот равенства и братства
бесхитростный предел.
Бывали, правда, раз-два,
что в урнах этих тел
не находили гари —
они то пустовали,
то полнил их того же гипса мел
или земля – бесславья
предел наш. Тут ясна
в пределах православья
обряда новизна
и новое уродство —
«издержки производства»,
издержанного, как царем – казна.
Не знал ты свальной казни,
не строил ты канал,
убит в бою под праздник
ты не был наповал,
и все же братской свалки,
как все, не избежал ты —
и хоть посмертно, без вести пропал.
С чьим прахом прах твой смешан
и навсегда стеснен?
Не слишком ли небрежен
был шанс? Она иль он?
Они? И кто такие?
Темно, как всё в России —
все смешано, темно, как страшный сон.
В сырой декабрьских холод,
в апрельский водостой
на чью могилу ходим
мы взбалмошной семьей,
за чьей могилой нам бы
ходить прилежней, дабы
прилежнее ходили за тобой?
Под нашими цветами —
она или они?
Вдруг смрадный грешник с нами,
а праведник? так дни
его поминовенья
не зная к сожаленью,
мы чью-то тень и огорчить могли.
Кто на твою могилу
в Родительские дни,
в дни скорби ли по сыну
приходят – кто они? —
кто над тобой на Пасху
пьет водку без опаски —
чьи дочери, чьи матери, сыны?
Возможно, что ты в разных
захоронен местах —
и скромно ль, безобразно
твой украшают прах?
иль вовсе позабыли
о ком-то, о могиле?
иль это урна в стенке и цветах.
Нет, множество деревьев,
быть может, над тобой,
цветов – красивых, редких
сортов – старик седой
какой-то их сажает
и сам того не знает,
что оба вы породы с ним одной.
Одно могу лишь знать я,
что мать, а также мы —
сыны твои и братья
с тобой погребены
на кладбище на нашем
никак не сможем – ляжем
мы с кем-то вовсе чуждым нам, увы.
…Ольха, березы, дальше —
старинная сосна,
жасмина куст удачный,
еловость, кривизна
тех слег, что мы с братьями
срубили наспех сами
там, где давно ограда быть должна.
Пред кем мы виноваты
за то, что видит Бог,
небрежно, небогато
могилы этой клок
ухожен – перед всеми
сожженными – пусть семя
взойдет над ними хоть из этих строк.
И вот мы год за годом,
когда заведено,
стоим здесь над народом
кремированным, но
и над тобою, ибо
здесь все же твое имя
среди нагих дерев погребено.
Не зря и не втуне
былая краса
владеет так юно
чертами лица.
Как стан ее гибок,
старинный набор
столь пылких улыбок —
и кажется – вздор,
не властны нимало
над ней времена…
Но вот задремала
на солнце она,
и юности тает
рачительный след,
и сон раскрывает
лицо, как секрет,
как тайну… И вместо
покоя на нем —
вдруг выплеснут резко
морщин водоем.
Больной, нелепый малый —
чей плащ ему до пят? —
лицом с улыбкой впалой
на слабой шее – в такт
шагам нетвердым – дробно
качает, и добра
его улыбка, словно
он рад дыре двора,
дождю и лужам, маю
плакатов и знамен,
и словно помовает
всему на свете он.
«Мы – словно приезжие в собственном городе…»
Мы – словно приезжие в собственном городе. Нам
в нем так анонимно – не верим своим именам.
Нам так незнакомо в толпе, набухающей днем —
своих отражений в витринах мы не узнаем.
А ночью так тихо, так призрачно нам, хоть кричи.
Невнятны нам крики за окнами в пьяной ночи.
Меняется город заочно и исподтишка,
и не узнаем мы в лицо его издалека,
вблизи ли: сливаются в общем массиве дома —
всех микрорайонов его долговая тюрьма.
Но чуждые лица до боли знакомы… Постой —
мы сами – морщины всеобщей безликости злой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу