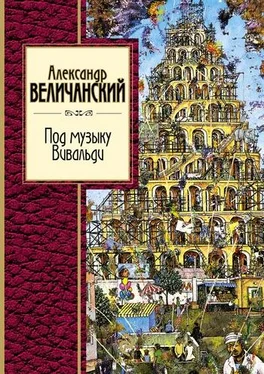Душа моя! – гулять бы ей на воле.
А мне б ее искать, как ветра в поле —
в полях, в которых сколько не паши
минувший тлен, не встретишь ни души.
Быть может, вы ее встречали сами —
старуху с голубыми волосами
(такая краска дикая): меха
потертые, вуаль… Стара, суха.
Ветхозаветный зонтик. Шляпка. Гневно
толкает публику слепую. Ежедневно
у Елисеевых она себе берет
грамм пятьдесят чего-нибудь. Черед
выстаивает гордо и надменно:
спешить ей некуда. «Вот я у вас намедни
брала швейцарский сыр, так он несвеж
и нехорош. Он разве – для невеж».
А эти наглые воровки-продавщицы!
И публика – всегда куда-то мчится.
Куда? – да за какой-нибудь треской!
Она же шествует неспешно по Тверской —
разглядывает новые афиши
(нет, не читает, а глядит). Всё тише
идет, чем ближе к дому. В автомат
зайдет и там оставит аромат
каких духов, хоть некому звонить ей.
Но, выходя, уронит: «Извините,
я задержала вас, но аппарат,
сдается неисправен». И парад
еще торжественней и строже
становится… И ежели прохожий
(какой с невежи нынешнего спрос!)
вдруг, поражен голубизной волос,
ей вслед уставится – так ей ведь не в новинку
такие взгляды вслед. И сразу видно:
вульгарный тип. И, Боже, как одет!
Штиблеты эти желтые… О, нет,
она всегда считала, что мужчины
беспомощны, смешны, каким бы чином
их не венчали, бедных. Суть не в том.
И думают, как дети, об одном.
А женские презрительные взгляды
она не замечает. Их наряды
внушают отвращенье ей. И яд
их взглядов отражал бесстрастный взгляд —
им с юности она владела грозно.
…Но вот уже и переулок – поздно:
помедлить прежде надо было… Вот
казалось бы, сейчас она войдет
в подъезд с кариатидами… Она-то
войдет – да еще как… Но воровато
и робко оглянувшись – не видал
ли кто – она тайком в полуподвал
вдруг юркнула, как девочка, по стертой
постылой лестнице. Две толстозадых тетки
какие-то ей всё ж взглянули вслед…
Но завтра она снова выйдет в свет.
He гневался Адам на Еву
и Иеговы гневу
не подражал. Он шел
уже не нагишом
с подругою, теперь понятной,
в мир безвозвратный,
где им судили впредь
труды и смерть,
сквозь оцепленье Серафимов —
в руках, вестимо,
двуострые мечи…
А рай в ночи
благоухал пустопорожне,
и звери Божьи
в нем мыкались одни:
не ведали они,
что ждет и их изгнанье,
за пропитанье
кровавая борьба —
силки, стрельба.
За центральных зданий черствым рустом —
в переулке, в доме из доходных,
где все вымороченней жилплощадь
коммунальная, в квартире, слишком некой,
в комнате, как водка, одинокой
жил старик, но без своей старухи.
Было деду семьдесят. Возможно,
шло к восьмидесяти – горькие запои
возраст затянули как бы ряской —
старый пруд. Он был пенсионером:
пил по пенсиям. Но лишь по смерти бабки:
умерла, как ни ходил за нею.
В голой комнате его теперь остался
лишь портрет ее великолепный:
с фотографии глядела гордо
женщина красы не то что строгой —
замкнутой скорей, скорее – скрытной
как порывы юности. Прекрасным
и таинственным лицо ее казалось
на портрете молодом, хоть старой
фотография была и пожелтевшей.
Оттого ль что не хватало водки,
иль от одиночества – не знаю —
но надумал дедушка жениться
на одной старухе из продмага
(разумеется, из винного отдела).
Говорил старик своей старухе:
«Мне не надо твоего прибытка.
Ты ведь, знать, на пенсию выходишь.
Детки твои тоже разбежались.
Кончится прибыток, а вдвоем мы
пенсиями сложимся – протянем».
Долго думала убогая старуха
над причудой этого пьянчуги:
тридцать лет она жила без мужа,
выросли и разлетелись детки,
дед сказал, что комната большая,
а у ней не комната – каморка.
Чуть не сладилось у деда это дело,
чуть не вышла за него старуха,
но надумал дедушка невесте
показать вперед свою жилплощадь.
Оглядела койку, подоконник,
стол, обоев рвань, в окошке – дворик
и портрет старинный заприметив,
долго на него глядела бабка…
наглядевшись, деду отказала
наотрез: уж больно пьешь нетрезво.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу