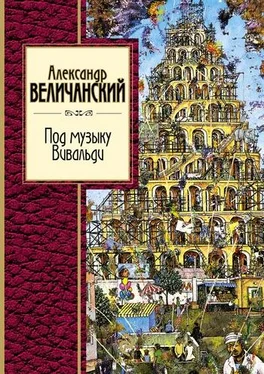лишь с соразмерностью стиха
сравнить уместно было б. Очи —
два сокровенных тайника —
и очерк их был не восточен,
не западен – ведь у времен
нет географии – и он
был оттого настолько точен.
Ночная их голубизна
была слияньем вод и камня…
Но вся она была ясна,
как тайна… Хоть извне пикантна
была, пожалуй, даже не
затронутая ни извне,
ни изнутри годами… К нам не
по доброй воле занесло
ее – нет, дочь с супругом – ола! —
не победив в Элладе зло,
спасались здесь от произвола.
Но нимфе участь их чужда,
как миру красоты – вражда,
хоть сам-то мир, конечно, зол он.
Верней трагичен. И пример
тому судьбы ее возмездье.
От неких новых строгих мер
сбежала дочь в Париж с семейством,
в приличной богадельне мать
оставив старость доживать…
Краса ж и старость несовместны:
она курила много и
снотворным, верно, запивала
воспоминания свои —
всё дымно здесь, я знаю мало —
и всё же в номере, в дыму
погибла нимфа – по всему,
видать, горело одеяло.
Красу не оставляют впрок.
Дочь отуречена – нимало
не схожа с матерью – и срок
отбыв, жива. А к смерти даром
приговоренный заглаза
зять Достоевского азам
в Сорбонне учит коммунаров.
Скрип портупей. Сапожный скрип державы.
Скрип кобуры, воспетый Окуджавой.
Скрип ночью отворяемых дверей.
И снега скрип – он был всего страшней:
он схож был с оловянным скрипом мисок.
И перьев скрип: скрип докладных записок.
И патефонный скрип тупой иглы.
Скрип половиц – общаются полы.
Чу! – скрип фамильной мебели – тот чинный
старинный СКЫП – у стервы-дворничихи
в полуподвале с видом на кота
дворового. Вот так летят года.
Колесный скрип механизации сельских.
Скрип пилочек по части заусенцев.
Скрип времени, который ШУМОМ скрыт:
скрип портупей, сапог и снега скрип.
Мне чудится, что так звучали годы,
когда и к ней – невидной, робкой, гордой
явился человек – прекрасен он
и нежен был – он был скорее сон,
но оставался явью, далью, плотью —
не только телом, даже каждым платьем
неловким знала: любит! да! ее!
ее одну! – и даже не свое
с ней счастье, а ЕЕ – ее такую,
какой она была. Они, ликуя,
ходили в парк, смотрели «Трех сестер»,
ликуя ели, выметали сор
из комнатки ее, в лото играли,
ликуя, бились среди тел и брани
в трамвае по утрам… Но вот беда:
он первым выходил всегда. Куда
потом он шел – ей было неизвестно.
Но мало ли работ – и ей – невесте
не к месту спрашивать про службу, про оклад,
того ль ей надо – но когда подряд
он трое суток к ней не возвращался,
она, измучившись, оторопев от счастья,
что вот он снова жив, что снова с ней,
она его спросила. И ясней,
правдивее не мог бы отвечать он —
он, переполненный ее – ее печалью —
(он ревности не ждал) – но вот за страх
ее ответил головою так,
как отвечают головой на плахах.
Шли ходики. Она не стала плакать:
не слезы застят всё, что впереди.
Она ему сказала: «Уходи».
Когда он выходил, она мгновенно
увидела и шаг его военный
и эту стать! Он был переодет! —
в того, кого теперь на свете нет —
в любимого, да просто – в человека.
Он был переодет. Он был калека,
скрывающий увечья – только чьи?
…Соседки в кухне ставили чаи.
Шли ходики. Все началось сначала.
Маруська разведенная кричала:
ее бы воля, всех бы под арест!
И надо было торопиться в трест.
Пришел он вскоре. И застал за стиркой.
Соседи тешились любимою пластинкой.
Был в форме, но без кубиков и шпал
(ей это невдомек). Но чем он стал
за это время – только гимнастерка —
и всё. Лицо как будто стерто.
И в голосе чуть не предсмертный хрип.
И скрип сапог. И портупеи скрип.
«Вот. Я вернулся. Я ушел из кадров.
К тебе». Потом молчание. «Но как ты
там был все эти годы? Был ведь? Да?
И наш с тобою год…» – «Ты никогда
об этом не узнаешь». Так же круто
он вышел, так же прямо, и с минуту
был в коридоре слышен скрип сапог.
И кто б тогда подумать только мог,
что нету этой поступи возврата.
Его забрали в тот же день. Она-то,
так живо горевала о живом
еще так много страшных лет… И вот
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу