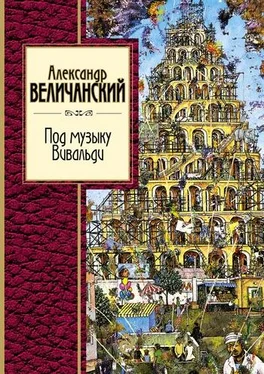Роман наш был предельно прост,
как Ботичеллевы рисунки
пером. Но в тех есть точность – кость,
а здесь был акварельный сумрак:
билетик членский свой из сумки
раз обронила на матрац
она… Но молодость безумна —
кто будет отвечать за нас?
К женитьбе дело шло. Как знать,
быть может, мы сочлись бы браком,
но в перспективе брака мать
ее явилась. Одинаков
был чем-то облик их. Однако
у матери был острый глаз
на родовые свойства злаков…
кто будет отвечать за нас?
Биологом она и впрямь
была. Но тот же взгляд раскосый.
Фигура та ж – куда ни глянь.
Все дело кончилось доносом,
естественно. И те же косы.
Их сходство мучило подчас
меня… И тот же стан. И нос. И
кто будет отвечать за нас?
Но все же связям родовым
не склонен доверять я. Гибко
растем мы. Но в то время им
все доверяли. И погиб я,
естественно. Мне не обидно:
естественность, как Божий глас,
была… И нам не надо гимнов —
кто будет отвечать за нас?
Шло время там у вас, где ад
эдемом числят. И, как судьбы,
неразличимый некий брат
двоюродный – он мне отсюда
чуть виден – выставку рисунков
моих устроил. В первый раз
они глядели в мир подсудный —
кто будет отвечать за нас?
Всего лишь час сей вернисаж
продлился, породивши слухи.
Да, время – это верный страж.
И вот явились две старухи
в толпе любителей, как духи
являются в дурной рассказ,
как сорняки поверх разрухи…
Кто будет отвечать за нас?
Их сходство в старости дошло
до некого предела. Еле
плелись, дышали тяжело.
Но не стеснялись, не робели.
«А неплохие акварели
писал он… этот богомаз», —
сказала мать… И в самом деле,
кто будет отвечать за нас?
Телави: узки и приземисты камни руин,
оград виноградных, проулков, ведущих в былое.
Фиаты, Фиаты вертлявые еле по ним
форсить исхитряются. Ночь наступает и строит
тяжелую церковь на площади, где ребятня
играет наощупь в футбол. Это маленький город.
И дышит народ на порогах домов после дня
с тяжелым, как олово, солнцем. Лишь храм на запорах.
Вот крепость срослась с вековой алазанской землей.
А вот на одном из проулков кривых перевале
(Фиаты юлили и дети вертелись юлой)
встал дом каменистый: давно уж в нем не обитали
ни люди, ни духи, казалось – ни стекол, ни рам,
ни ставен – чернее, чем ночь, были окон пустоты —
да: дом пустовал, как Телавский заброшенный храм,
и полуразрушен был столь же… Но вдруг поворот, и
в одном из проемов оконных увидели мы —
увидели белую голову – в черном проеме —
седую старинную голову – у головы —
пустые глазницы чернее, чем тьма в этом доме.
Была неподвижна чужой головы седина,
но только по ней было ясно, что это – старуха —
глазниц пустотою куда-то глядела она.
Такой неподвижности чужды движенья и звуки.
И все же куда-то глядели пустоты глазниц
(хоть белые клочья волос ее не шелохнулись),
и ночь исходила незримо и грозно из них
на мир, на Телави, на угол двух сгорбленных улиц.
Он был смертельно болен, и жена
его состарилась над долгою болезнью,
устала и сама была больна
уже давно. Мы отдыхали вместе
под Вильнюсом. Сосновые леса.
Чуть потускневшие старинные озера.
На мызе жили: старый дом и сад
ухоженный. Сошлись мы очень скоро.
Мы жили в комнатушках проходных.
Он много знал – недуг его не старил.
Я по окрестностям прогуливала их…
Но вот что: я играла на гитаре,
хоть редко, но еще в педвузе бард
один меня привадил к этим звукам.
(Я не любительница болтовни и карт
и прочих девичьих забав). От друга
я получила горькое письмо,
плачевное письмо в тот самый день, и
уж заполночь, самой себе на зло,
я еле слышно стала тенькать
один романс старинный… Вдруг меня
привлек какой-то звук – чужой и жалкий.
Я прервалась. У них был свет. И я
услышала: «Ну, что ж вы? Продолжайте».
Тогда послушно я взяла аккорд
и в дверь вошла к ним. Сидя на постелях,
они тихонько (не тоска, не скорбь,
а счастье прошлое), они тихонько пели…
Он был смертельно болен. Лысоват.
И страшно худ под тонким одеялом.
Я знала лишь мелодию. Слова
от них тогда впервые услыхала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу