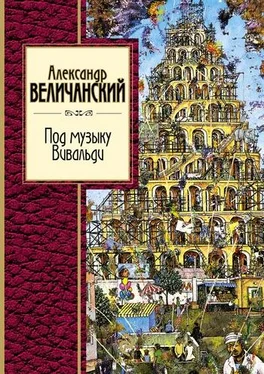И в темноте
подумал фавн:
так на досуге
пошучу я:
де, нимфы тем
доступней нам,
чем им доступней
вера в чудо.
Не надо слез прогорклых,
давно ослепших слез.
Сидела полуголая
в жару своих волос.
Теней ночная графика
явилась на стенах.
Молчали фотографии.
Водопровод стенал.
Белела простынь голая.
И ночь была душна.
Вот где-то радиола, и
мелодия слышна.
Шуршала зелень в скверике,
как прежде по ночам.
И – никакой истерики.
И – телефон молчал.
По улице ходили
гуляки – ну-ка тронь!
И в кухне холодильник
подрагивал, как конь.
Видела его на Невском
с этой тварью нынче днем.
Я совсем одна, и не с кем
позлословит мне о нем.
…В Петергоф возил и в Павловск
(ничего там, кстати, нет).
А потом, небось, трепался
обо мне… искусствовед!
Успокоилась работой.
Верой в Божьи чудеса.
Ненавистью. Верой в Бога —
больше в Сына, чем в Отца.
Успокоилась. Порядок
в комнатушке. Вырос сын.
Муж ушел, и ад догадок
раем знанья стал. Ведь с ним
кончено. И ей спокойно.
Даже страх ее устал.
И лицо у ней такое,
словно крест к ее устам
поднесли, благословляя.
Из былого – только смех
вырывается: былая
живость чувства без помех.
Успокоилась – не Буддой,
но Христом – того гляди
и утонет крестик в бурной
неприкаянной груди.
Успокоилась. Устала.
И таков минувший лик —
словно ждет она удара
от любого всякий миг.
Словно ждет она удара
или чуда… Вечер пуст.
И душа уходит даром
из ее бесстыдных уст.
Сапоги один достать
обещал. Да жмется мать.
Я сама-то – вся в долгах.
Говорю Давиду – так,
мол и так. (Ведь он горазд —
мы с ним даже в лифте раз).
Говорю, что врач кусок
требует. Достал и в срок.
Адрес вру. К подруге он —
на такси меня. Фасон
срисовала. Попила
чаю с тортом. Добела
набелилась. Томный вид:
еле вышла. Мой Давид
побелел белей белил,
что на мне, и подхватил
на руки меня. Дрожит.
Ну, и что с того, что жид.
Зря его Наташка так.
Любит. Любит, как дурак.
Любит больше, чем жену,
Чем свою жидовку… Ну,
согрешила, видит Бог.
Но куда мне без сапог?
Бедная нимфа,
темно под землей,
душно, а дни-то
смыкаются где-то.
Станут ли глиною
или золой
все эти линии
тела с газетой?
Откуда эта вера в чудо,
когда уже ни юных сил, ни чувства,
казалось бы, остаться не должно
у них – обманутых, растраченных давно
на чьи-то прихоти, измаянных работой
и одиноких. Все же ждут, что кто-то —
прекрасней, чем любой киноартист —
вдруг явится из толп безлюдных – чист
и светел. Верно, помнят время оно,
когда сходили ангелы на лоно
простых и грешных дочерей земли
и страстью их своей небесной жгли.
И чистотой небесною палимы,
рождали девы сильных исполинов —
в глубинах памяти, на допотопном дне
те времена запомнили оне
Девица и отец ее? – они
вдвоем вдали от пляжной беготни.
Полуодет он: замша, жир и пряжки.
Девица подставляет солнцу ляжки,
и плечи до сосцов заголены.
В девице больше пола, чем красы.
Он смотрит на японские часы.
Но молодость ее столь герметична,
что ясно и под замшей заграничной:
он ей годится в деды – не в отцы.
Он озирается вокруг, как иностранец
(хоть по-литовски говорит) – отставший старец,
а спутница исчезла впереди…
но вот она протягивает палец
к колечку серебра на старческой груди.
Душа моя, откуда и куда ты?
не ты ль во всем на свете виновата?
Кругом года, трактиры, города —
откуда ты? Откуда и куда?
Быть может, ты мне в души не годишься?
или сама подумываешь: ишь ты —
меня к себе припутывает плут.
Душа моя, как разминуться тут?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу