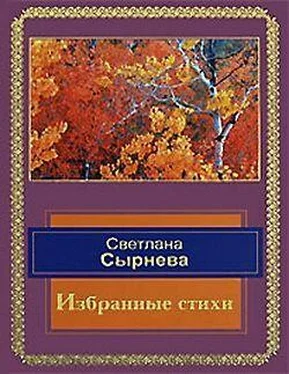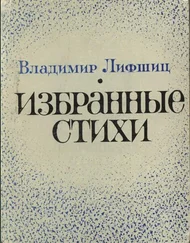В тихом омуте я живу.
В тихом омуте – тишина.
Человек наклонит траву,
глянет в омут – не видно дна.
Молча сядет на бережок
в запылившихся сапогах
и не моет в воде сапог,
суеверный чувствуя страх.
Он родился и вырос здесь,
и лесной у него закон:
во чужую душу не лезь
и свою храни испокон.
Оттого между мной и им,
словно с неба упавший щит,
лист осиновый, недвижим,
всякий раз на воде лежит.
И уже отворилась дорога туда,
где не встретят ни путник, ни табор, ни скит,
где заменой всему, расцветя навсегда,
неподвижное летнее утро стоит.
Как поют эти птицы! Дана почему
нам на крайний лишь случай сия благодать?
Где ты, глухонемой, утопивший Муму —
сладко ж было тебе по заре убегать!
Все убито, и не о чем плакать уже,
и отнято остатнее слово твое.
Но зияет великая рана в душе,
и бесшумно свобода заходит в нее.
Ветви черемухи белой у самой воды.
О неподступная в царственном сне глухомань!
Если проездом на миг открываешься ты —
скройся, отстань и усталое сердце не рань.
Что тебе сердце чужое? Ты жизнью своей
с верхом полна, ты насыщена влагой глубин,
переплетеньем, тяжелым движеньем ветвей —
и безразлична к тому, кто тебя возлюбил.
Что же еще тебе надо? Прощай и пусти!
Ты завладела свободой, и ты не отдашь ее нам.
Но в ликованье жестоком не ставь на пути
белокипящих садов по пустым деревням.
Не возникай вдалеке на обрыве крутом,
не выпускай соловья в полуночную тишь!
Ты, неприступная крепость, вовеки незапертый дом,
как я мечтала, что ты и меня приютишь!
Ночью, бывает, проснешься, поднимешься с нар,
с койки ль больничной – и смотришь зачем-то в окно.
Много ль осветит убогий дворовый фонарь?
Улицу, угол соседнего дома – а дальше темно.
От веку ты милосерден, казенный ночлег,
ставя фонарь под окном наподобье слуги.
Есть утешенье, покуда не спит человек:
улица, угол соседнего дома – а дальше ни зги.
Ведь человеку на что-нибудь нужно смотреть:
дерево, угол... А там – помогай ему Бог
сквозь вековечную темень, не глядя, узреть
белое поле, овраг и заснеженный бор.
Оцепенелая пустошь! Ты цельным, единым пластом
наглухо спишь, и тебя добудиться нельзя —
или же движешься с бурей в пространстве пустом,
третьего нет: либо спишь, либо движешься вся.
Двинулась вся. И проносится белой стеной,
ищет, где б снова забыться в покое своем,
и по дороге фонарь задувает ночной,
и застилает сугробом оконный проем.
День за днем расстилает пурга
не казенную скатерть – снега.
В этом доме я только слуга,
в этом мире я только слуга.
Что под снегом равнина таит,
что там в поле? Не видно ни зги.
Черный куст под горою стоит
в вековечном молчанье слуги.
Не в ливрею оденьте слугу —
в холод, в стынь, в ледяную броню!
Все, что нынче в душе берегу,
я теперь на века сохраню.
Видишь, лира торчит из земли,
из-под снега – гусарский погон...
Мы не умерли, мы не ушли —
мы замерзли до лучших времен.
Мы оставлены здесь зимовать
и молчать из глубин ледников,
и друг друга во тьме узнавать
по нетленному звону оков.
Этот сад лопухами зарос,
перепрела, истлела ограда.
И забылся, не мучит вопрос:
справедливо ли? Так ли и надо?
Не сбылось, не совпало. Так что ж!
Прояви бессловесную милость:
душу ты не жалей, не тревожь —
безвозвратно она утомилась.
Притерпелось, притерлось давно,
к абсолютной недвижности клонит.
Так с годами уходят на дно
бесполезные бревна в затоне.
Кто надумал, что все впереди,
потому как пейзаж беспечален?
О дитя, поскорей уходи,
не шали среди русских развалин!
Это нам было негде играть,
кроме милого отчего праха.
И никто не хотел умирать
без печали, без боли и страха.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу