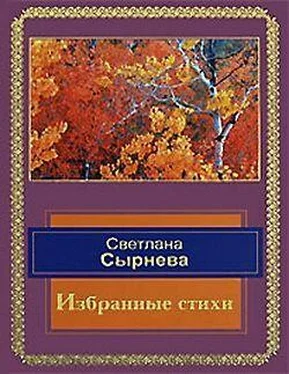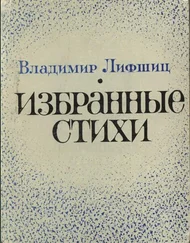И везде тебе путь! Никому не понять,
отчего ты всечасно хотел
ледяную свободу свою поменять
на людской приземленный удел.
В чистом поле – одна белынь,
и метет из последних сил.
Что ни выйду – шуршит полынь:
«Он забыл тебя, он забыл».
Прояснится. И в синей мгле
иней выпишет на стекле:
«Он забыл тебя, он забыл,
словно нет тебя на земле».
Вечный ковш взойдет, звездокрыл:
«Он забыл тебя, он забыл».
Шумный, дальний, надзвездный стан,
где смеются и жгут костры,
отнят ты, потому что дан
был легко и лишь до поры.
Что ж! Пирующим в небесах
дела нет до моей беды.
Но поставлено мной в сенцах
ледяное ведро воды.
И отрадно мне зачерпнуть
из него, проломивши лед, и отпить.
И в лицо плеснуть.
И припомнить, что все пройдет.
Им досталось местечко в углу фотографии.
Городские-то гости – те мигом настроились,
а они, простота, все топтались да ахали,
лишь в последний момент где-то сбоку пристроились.
Так и вышли навеки – во всей своей серости,
городским по плечо, что туземцы тунгусские.
И лицом-то, лицом получились как неруси.
Почему это так, уж они ли не русские!
Ведь живой ты на свете: работаешь, маешься,
а на фото – как пень заскорузлый осиновый.
Чай, за всю свою жизнь раза два и снимаешься
– лишь на свадьбах, и то: на своей да на сыновой.
Гости спали еще, и не выпито горькое,
но собрала мешки, потянулась на родину
впопыхах и в потемках по чуждому городу
вся родня жениха – мать и тетка Володины.
И молчали они всю дорогу, уставшие,
две родимых сестры, на двоих одно дитятко
возрастившие и, как могли, воспитавшие:
не пропал в городах и женился, глядите-ко!
А они горожанам глаза не мозолили
и не станут мозолить, как нонече водится.
Лишь бы имечко внуку придумать позволили,
где уж нянчить! Об этом мечтать не приходится.
Может, в гости приедут? Живи, коль поглянется!
Пусть когда-то потом, ну понятно, не сразу ведь...
Хорошо хоть, что фото со свадьбы останется:
будут внуку колхозных-то бабок показывать!
Ну а дома бутылку они распечатали,
за Володюшку выпили, песня запелася:
«Во чужи-то меня, во чужи люди сватали,
во чужи люди сватали, я отвертелася».
* * *
Отважный воитель с подругой простится
и до свету выйдет в поход
туда, где бессмертная дивная птица
в закованной клетке живет.
За ширью полей, за крутыми хребтами,
у злых иноверцев в плену
ее оплели золотыми прутами
и в башне содержат одну.
Туда не доносятся стон лихолетья
и уличных толп нищета,
но с вещим бесстрастьем однажды в столетье
она отворяет уста.
И свод оглашается криком гортанным,
пророчащим смерть и беду,
и падают с бархатных стен ятаганы,
и конь обрывает узду.
Огни постовые горят у острога,
во мраке не спят сторожа.
Ты молод, воитель. Тебе и дорога,
покуда решимость свежа.
Вернешься с добычей к родному привалу,
прославишь отеческий стан.
Но катится следом, подобная валу,
кровавая месть басурман.
И пепел покроет родные пределы,
и очи ослепнут от слез.
Глянь, доблестный витязь, чего ты наделал,
кого из чужбины привез!
Ни пламя, ни ужасы сечи священной
на птицу не бросят следа.
И клетку разбили! Но, верная плену,
она не летит никуда.
Не внемля словам и проклятиям бранным,
ненужные крылья сложив,
она светозарным царит истуканом
для тех, кто останется жив.
В полночь, когда разольется река
и половодье подступит к избе,
ты не накинешь дверного крюка,
зная: никто не приедет к тебе.
Плен не пугает. Свобода страшна
бедной душе, и кого в том винить,
если ей тайная ноша дана,
чтобы упрятать и долго хранить.
Так вот с годами ни рук и ни ног
стало не надо. Отсохли они.
Короб чуланный, забытый клубок,
будь кем угодно, но тайну храни!
Это, сказали тебе, до времен.
Но безвозвратное время прошло.
Шепот ли, плач ли бесплотен, как сон:
«Девки гуляют – и мне весело».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу