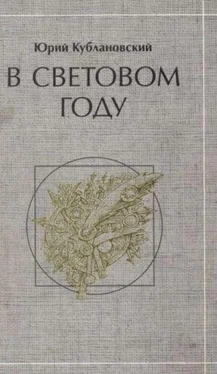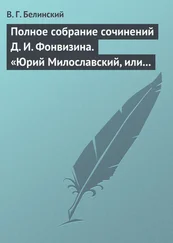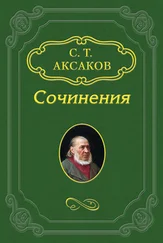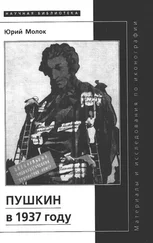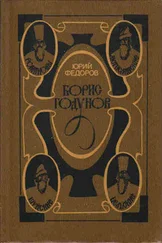в неуступчивой груди колотьба
гонит в рай на дармовые хлеба.
Распахну окно, за рамы держась,
крикну: «Отче!» — и замру, торопясь
сосчитать, как много канет в
ответ световых непродолжительных лет.
«Далеко за звездами, за толченым…»
Далеко за звездами, за толченым
и падучим прахом миров иных
обитают Хлебников и Крученых,
и рязанский щеголь с копной льняных.
То бишь там прибежище нищих духом
всех портняжек голого короля,
всех, кому по смерти не стала пухом,
не согрела вовремя мать-земля
под нагроможденными облаками
в потемневших складках своих лощин.
Да и мы ведь не были слабаками
и годимся мертвым в товарищи.
И у нас тут, с ними единоверцев,
самоучек и самиздатчиков,
второпях расклеваны печень, сердце
при налете тех же захватчиков.
…Распылится пепел комет по крышам.
И по знаку числившийся тельцом,
и по жизни им не однажды бывший —
приложусь к пространству седым лицом.
1. XI. 1999
В безвольных щупальцах с непотемневшей дымкой
усадебных берез
взялись соперничать солисты-невидимки
видать всерьез.
Я не обученный, а понимаю
о чем они:
акафист знобкому с черемухою маю
в длиннеющие дни;
как ранним летом
пук в воду ставишь ты
раскидистый с летучим цветом
куриной слепоты;
о заседаниях за рюмкой до зари и
достоинстве потерь,
о сердоликовых запасах Киммерии,
утраченных теперь;
соревнование в определеньи тактик,
как выделить в анклав
скорей Отечество, его среди галактик
не сразу отыскав.
В родных преданиях всего дороже
нам искони
вдруг пробегающий мороз по коже —
вот же
о чем они!
…И Фет, вместо того чтобы всхрапнуть всерьез,
набился к ним в единоверцы
и письменный стилет, как римлянин, занес
на заметавшееся сердце.
За падавшим в реку мячиком,
а может, и не за ним,
я прыгнул с обрыва мальчиком
и — выплыл совсем другим.
Да вот же он, неукраденный,
не шедший в распыл, в навар,
не ради забавы даденный,
уловленный цепко дар.
С тех пор из угла медвежьего
неведомого дотоль —
на карте отыщешь где ж его —
ко мне поступала боль.
Кончающиеся в бедности
намоленные края —
здесь тоже черта оседлости
невидимая своя…
Вскипали барашки снежные,
и мы, отощав с тоски,
как после войны — мятежные
садились за колоски
убогого слова вольного.
Потом, перебив хребет
души, из райка подпольного
нас вытянули на свет.
Ползите, пока ходячие,
в зазывный чужой капкан.
Глядите, покуда зрячие,
на лобную казнь Балкан.
Просторней весной сиреневой
заброшенные поля.
Но коже под стать шагреневой
сжимается мать-земля.
Догадки о русском Логосе
отходят к преданьям — в синь,
оставив звезду не в фокусе
и приторную полынь
во рту у стихослагателя,
глотающего слюну,
как будто у неприятеля,
прижившегося в плену.
24. V.1999
У губчатой соты заглохшей кавказской осы
над сонной артерией береговой полосы
лукавый глазок, а под ним допотопный оскал
сверкнули, мелькнули и юркнули в скальный прогал.
В пещере сочатся прозрачные кварца сосцы.
Халвою крошатся слоистого камня резцы.
…Напомнила ящерка нам про грядущие дни,
когда по теснинам зависнут скрипучие пни,
когда её мышцы оденутся плотью сполна
и хищные лапы смиренно омоет волна.
В опальной зелени Туркмении
гранаты бурые поспели.
Рассохлись хижины в селении,
как глиняные колыбели.
Сонливо ослики сутулятся
услужливые у чинары,
когда мелькают в пекле улицы
пугливо яркие шальвары,
скрываясь за ковровым пологом
во тьме шалмана ли, духана,
откуда тянет пряным порохом
просыпанного там шафрана.
Пятнадцать лет, поди, красавице,
в гарем какого-нибудь шаха
ей скоро предстоит отправиться.
От ожидания и страха
в её глазницах виноградины
свернулись в черные кровинки.
И греют маленькие гадины
свои серебряные спинки.
1
По теснинам ежевичник
переспел; и вот
загорелый пограничник
скалит черный рот.
Читать дальше