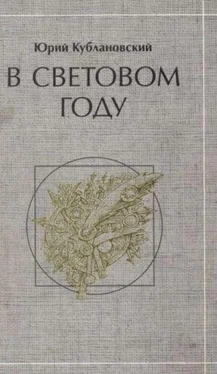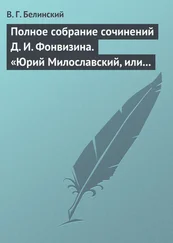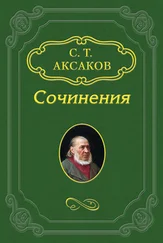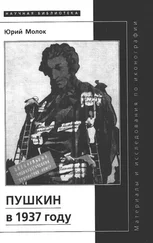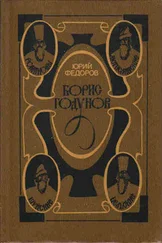За узду привязан к вышке
азиат-скакун.
Горизонт подобен вспышке
сладострастных струн.
В знак восточных наслаждений,
словно дынный сок,
по колючкам заграждений
пробегает ток.
Притаился где-то, ибо
взял успешно след
ваххабита и талиба,
хитрый моджахед.
Всё звенят ветра-скитальцы
в руслах древних рек.
И не в силах тронуть пальцы
воспаленных век.
…Рядовой подвержен сплину,
зад провис, что куль.
Но рванись с холма в лощину
цокнет вслед
и пустит в спину
ленту жгучих пуль!
2
Драпировки темной тверди.
Жухлая трава.
Дуновенье сонной смерти,
значит, смерть жива.
Веси знойного тумана.
Бежевая синь.
Вместо воздуха дурманный
запах спелых дынь.
Где-то, спрятавшись за глыбу,
противостоит
моджахеду и талибу
хмурый ваххабит.
Это их во время оно,
выйдя на крыльцо,
рядовой с погранзаслона
опознал в лицо.
И тотчас его сморили
миллионы лет,
и щепотью желтой пыли
стал его скелет,
с пряным запахом шафрана,
через блокпосты
уносимой
до Афгана,
где темна одежд сметана
и пески пусты…
Гигантский козырек скалы опущен низко
над выцветающею чащей тамариска
с мелькнувшей ящеркой, уснувшей на ходу,
как будто близок срок, когда к тебе приду,
осевшим голосом поведать не умея
про бледный тамариск и маленького змея.
Холмы и впадины слабеющей пустыни
с боков потрескались, подобно коркам дыни.
Колючки крошечной жесток укус в пяту.
Соленый суховей на веках и во рту,
где высохший язык устал просить поблажки,
но нечем окропить его из мятой фляжки.
Над дремлющей землей приподнимая полог,
на миллионы лет здесь счет ведет геолог.
Но так белёс зенит и неизменен час,
что кажется, хитрец обсчитывает нас,
спортивной кепочкой прикрыв нагое темя,
тасуя бытие и подгоняя время.
1977,2000
Сумерки в сентябре
долго не зажились:
с астрами во дворе
по существу слились.
Наглухо застегни
пуговицы плаща.
Вон по шоссе огни
бегают, трепеща
перед постом ГАИ.
Но — тишина окрест.
Вслушиваюсь в твои
хроники здешних мест
и по обрывкам вновь
жадно воссоздаю
сбивчивую любовь
истовую твою.
Не то чтобы я хотел
скулить о минувших днях
с видением ваших тел,
сближающихся впотьмах,
но разве тебя одну
без навыка и снастей
отпустишь на глубину
нахлынувших вдруг страстей?
При играх теней на дне,
пугливом огне свечей
там каждый, как рыба,
не хозяин своих речей…
То-то березы над
мокрой дорогой той
к дому через посад
вянут и шевелят
проседью золотой.
Живем на казенный кошт
судьбы; в мировой пыли
Медведицы тусклый ковш
вот-вот зачерпнет земли.
С тех пор как миновавшей осенью
узнал под дождичком из сита,
что родом ты из Малороссии
да и к тому же родовита,
как будто в сон медиумический
или прострацию какую
впадаю я периодически
и не пойму, чего взыскую.
Люблю твои я темно-русые
посеребренные виски
и ватиканским дурновкусием
чуть тронутые образки.
Где гулить горлицы слетаются
об отчих тайнах небывалых
и мальв удилища качаются
в соцветьях розовых и алых,
где увлажнилась темно-серая
твоя глазная роговица —
там между колдовством и верою
размыта ясная граница.
1
Зимнего грунт окна
с оттисками соцветий —
то-то же не видна
смена тысячелетий.
Словно на полюсах
срезаны эдельвейсы.
В тряских автобусах
междугородних рейсы.
Скинешь, в пути устав,
с косм капюшон в передней.
Сходство твое с Пиаф
станет еще заметней.
Зимние дни темны,
темные, мимолетны.
Сбивчивы птичьи сны
и высокочастотны.
2
В толщу теперь окон
с уймой рубцов, насечек
заживо вмерз планктон
здешних проточных речек.
Стало быть, после вьюг
с крыши сойдя, лавина
снежная рухнет
вдруг прямо на куст жасмина.
Оползням старых книг
что-то тесн о на полке —
эпос не для барыг,
а о беде и долге.
Чтения букварей
наших былинных дедов,
словно любви — скорей
не оборвать, отведав.
Читать дальше