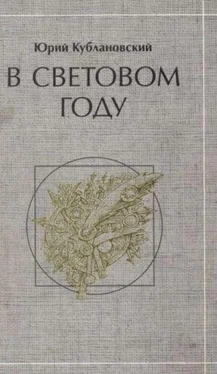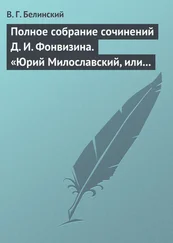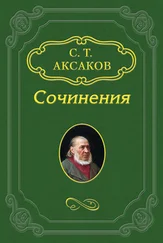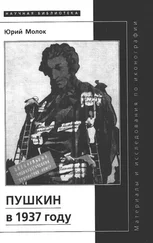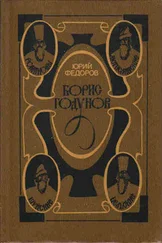В дни баснословных семестров, сессий,
перемежающихся гульбой,
когда в диковину было вместе
нам просыпаться еще с тобой,
щенок с запутанной родословной
кичился, помню, копной до плеч
и освоением жизни, словно
того, что следует жечь и сжечь,
нося ремесленные опорки.
А у тебя-то тогда как раз
чего-то было из нерпы, норки
и голубиные тени глаз.
Покрытой свежим снежком Волхонки
вдруг заблестевшие огоньки
в стране нетленки и оборонки
недосягаемо далеки.
Нас развело по своим окопам.
Грозя грядущему кулаком,
я стал не то чтобы мизантропом,
но маргиналом и бирюком.
Хотя, как в консульство Парадиза,
порой наведываюсь в музей:
гляжу на красных мальков Матисса
и вспоминаю былых друзей.
Когда ты засветло бываешь
в потемках дома моего
и всё как будто обещаешь,
не обещая ничего,
и бормоча: какое счастье
вдруг после черной полосы,
расстегиваешь на запястье
соскальзывающие часы,
я, как ныряльщик неразумный,
поспешно убеждаюсь в том,
что беспокоит вихрь бесшумный
шиповник белый за окном,
и не страшусь колоть щетиной
твое раздетое плечо,
и мне от нежности звериной,
как молодому, горячо.
Яношу Гайошу, скрипачу и приятелю
Бывало, под мухою
по молодости
приму и занюхаю.
Прости и впусти.
По жанру положенный
герой в боевик
так входит, поношенный
не сняв дождевик,
поклажу походную
неся на горбе,
чтоб душу бесплодную
доверить судьбе.
Ни роще в безлистии,
ни, проще сказать,
беде в бескорыстии
нельзя отказать.
Жизнь сделалась прожитой,
нагнавшей слезу
на кисти мороженой
рябины в лесу.
Раздетая донага
зазывная даль.
И с вальсом из «Доктор
Живаго» февраль.
Мнил, дело минутное,
но вот тебе на:
последние смутные
сбылись времена.
В оконце алмазная
купина горит.
И жизнь безобразная
уснуть не велит.
Июнь, опоив горьковатой отравой,
своим благолепием был
обязан сполна курослепу с купавой,
кувшинкам, врастающим в ил.
Тогда, поразмыслив, я выбрал в итоге
всё лето гулять, бомжевать,
а зиму зализывать раны в берлоге,
пока не начнут заживать.
Привыкший к своей затрапезе, едва ли
я вдруг испытал интерес
к богатству, когда б не купил на развале
подержанный атлас Небес.
И сразу же стал на догадки скупее:
сродни ли — сказать не берусь —
неровно мерцающей Кассиопее
покойная матушка Русь.
Своим чередом приближаясь к отбою,
глотая слюну с бодуна,
я так и не смею проститься с тобою,
родная моя сторона.
Когда световые года пронесутся,
хотя нескончаем любой,
а вдруг доведется, робея, коснуться,
мне ризы твоей гробовой?
27. VII.1999 Желомеено
«Волны падают — стена за стеной…»
Отчаянный холод в мертвой заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон. Жизнь замерла. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий.
Из последнего письма отца Павла Флоренского с Соловков (4. VI. 1937)
Волны падают — стена за стеной
под полярной раскаленной луной.
За вскипающею зыбью вдали
близок край не ставшей отчей земли:
соловецкий островной карантин,
где Флоренский добывал желатин
в сальном ватнике на рыбьем меху
в продуваемом ветрами цеху.
Там на визг срываться чайкам легко,
ибо, каркая, берут высоко
из-за пайки по-над массой морской
искушающие крестной тоской.
Всё ничтожество усилий и дел
человеческих, включая расстрел,
и отчаянные холод и мрак,
пронизавшие завод и барак,
хоть окрест, кажись, эон и иной,
остаются посегодня со мной.
Грех роптать, когда вдвойне повезло:
ни застенка, ни войны. Только зло,
причиненное в избытке отцу ,
больно хлещет и теперь по лицу.
Преклонение, смятение, боль
продолжая перемалывать в соль,
Читать дальше